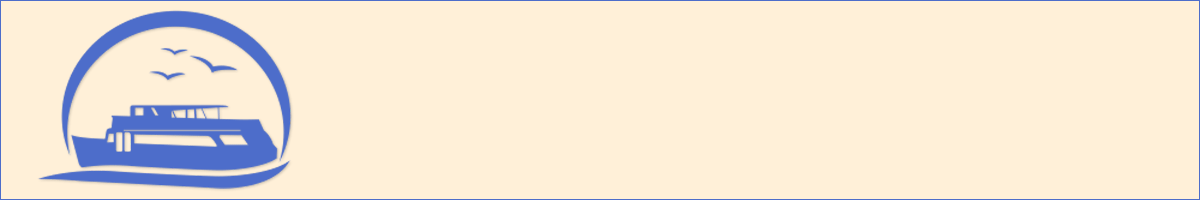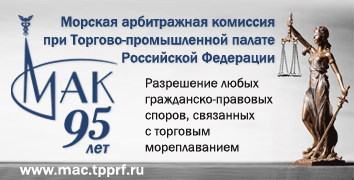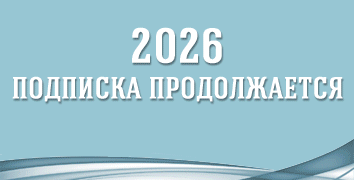Сергей Огай: «Моя мечта связана с моей ответственностью»
28.12.2015

14 ноября 2015 года Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского отмечает 125-летие. На вопросы юбилейного интервью отвечает ректор Морского университета и его выпускник Сергей Алексеевич Огай.
Беседу вела Галина Якунина, МГУ им. адм. Г.И. Невельского
– Сергей Алексеевич, вы приехали во Владивосток из Советской Гавани, морского города. Отец у вас инженер-кораблестроитель. Логично, что вы выбрали море. Но чем было продиктовано решение поступать на судомеханический факультет ДВВИМУ, а не, скажем, на судоводительский?
– Да, выбор был сделан в Совгавани. Когда встал вопрос, куда мне пойти учиться, на семейном совете рассматривали два варианта: кораблестроительный факультет в Дальневосточном политехническом институте и судомеханический в Дальневосточном высшем инженерном морском училище. С учетом того, что у меня были друзья, которые уже стали курсантами училища и очень хорошо о нем отзывались, мой выбор был предопределен. Родители советовали выбрать профессию, близкую к кораблестроению, поэтому я остановился на судомеханическом факультете.
– Трудно было поступать?
– Особых трудностей не помню: у меня была одна четверка в аттестате, остальные предметы – «отлично». Интересно, что у восьми других ребят из нашей совгаванской 46-й школы, которые подали документы в ДВВИМУ, были в аттестатах и тройки, но все экзамены они сдали успешно. Это говорит о том, что тройки были твердыми, и знания нам давали крепкие.
– О чем вы вспоминаете, когда встречаетесь со своими однокурсниками?
– Во-первых, мы всегда вспоминаем нашего командира роты Владимира Григорьевича Базылева. К сожалению, его уже нет в живых. Будучи отличником, тем не менее никогда не был у командиров на особом счету. Хотя почти всегда уезжал в отпуск или на практику раньше других, поскольку сдавал сессию досрочно. Так вот, возвращаясь из очередного отпуска, скажем так, по техническим причинам прибыл на один день позже. И получил пять нарядов. Для современных курсантов это, возможно, нонсенс: отличника за один день опоздания так сурово наказали. Но это был принцип: никаких поблажек никому!
Часто наши воспоминания касаются колхоза. Когда стали курсантами, время понеслось стремительно, мы толком и осознать не успевали, что с нами происходит. Вот мы в строю, вот нас подстригли и дали робу, и вот мы уже в деревне на сельхозработах... Конечно, присматривались, притирались друг к другу. Пользу колхоза как школы коллективизма трудно переоценить.
– Когда вы увлеклись парусным спортом и что, на ваш взгляд, он дает человеку?
– Я рос в северном городе, где культивировались зимние виды спорта. Летом безостановочно гоняли в футбол, а зимой занимался хоккеем с шайбой. Начинал на уровне дворовой команды, потом вошел в школьную и городскую. Всю амуницию сшил своими руками... А на старших курсах в ДВВИМУ увлекся яхтенным спортом. Парус развивает в человеке два качества, которые на первый взгляд несовместимы друг с другом. Это, во-первых, умение терпеливо ждать, иметь выдержку, когда ветра нет и яхта стоит. Одно из самых трудных испытаний в жизни: ждать и не поддаваться панике. Второе – это умение работать в команде и быстро реагировать на ситуацию. Очень быстро. Без этих навыков в парусном спорте делать нечего.
– Кто из преподавателей вам запомнился за годы учебы?
– Помню многих. Но прежде всего назвал бы Ростислава Николаевича Паршукова, который преподавал историю КПСС на первом курсе. Очень интересно рассказывал, приводил яркие примеры, заставлял думать и сопоставлять. На втором курсе запомнилась Таисия Георгиевна Друзь. Она играла особую роль в привлечении способных ребят к научным исследованиям. Когда у нас начались такие предметы, как техническая механика и сопромат, мы невольно отметили особую форму работы преподавателей с курсантами. Это было такое индивидуальное наставничество. Тем, кому эти науки давались, Таисия Георгиевна предлагала более сложные задачи, которые вызывали у курсантов настоящий научный азарт, рождали интерес исследователей. Мы приходили вечером после занятий и разбирали с нею сложные задачи, получая настоящую радость, когда решение было найдено. Потом выступали с нашими открытиями на семинарах и конференциях. Хочу повторить: это было очень доброе и одновременно очень результативное наставничество. Я на себе его ощутил.
– А кто был вашим «крестным» в научной работе?
– Здесь особо хочу отметить Грайра Артемьевича Меграбова и Бориса Ивановича Друзя. Когда на пятом курсе стало ясно, что останусь учиться в аспирантуре, возник такой «соревновательный» момент. С одной стороны, я судоремонтник, и мне, казалось бы, прямая дорога к Меграбову. С другой стороны, Друзь очень увлек меня своими исследованиями мягких оболочек, я с ним плотно работал на четвертом и пятом курсах.
– То есть возникла конкуренция?
– Нет, никаких серьезных разногласий между моими учителями не было. Все было очень по-доброму. До сих пор с благодарностью вспоминаю, насколько творчески организовал подготовку к нашей дипломной защите Меграбов. Он сформировал бригаду дипломников, работающих над одной темой, а тема была комплексная и объемная: «Ледовые докования судов и создание специальных устройств для судов в ледовых условиях».
Дело в том, что интенсивность судоремонтных работ в те годы была очень высокой даже в суровых условиях Дальнего Востока. Решалась задача по круглогодичной работе судоремонтных заводов. Когда торосистый лед на акватории доходит до трех с лишним метров, а ледовый покров – до двух, суметь обеспечить доковые операции – это высший пилотаж. Это совершенно особые условия и задачи. Так вот, Меграбов оформил нашей бригаде командировку на запад, чтобы мы получили представление о самых новейших разработках. Мы побывали в Ленинграде, Риге, Архангельске, Мурманске... Это была огромнейшая работа.
А знаете, что сделал Меграбов накануне нашего выпуска? Владивосток был закрытым городом, зато Находка была открыта. И в этом городе в наш выпускной год была организована первая масштабная международная конференция с выставкой последних достижений в судоремонте. Приехали финны, англичане, американцы, японцы... И нас, дипломников, Меграбов направил для участия в этой выставке. Мы увидели самые современные технологии судоремонта, которые тогда были в мире. Вот с такими впечатлениями и знаниями мы выходили на защиту дипломных работ...
– Да, это удивительная история. Но, насколько знаю, вы остались верны школе «мягкооболочников»?
– Я уже говорил, что Борис Иванович Друзь с огромным тактом и терпением привлекал меня к научной работе с первого курса. Все разработки, через которые знакомился с методикой и методологией научных исследований, – это были разработки по использованию мягких оболочек в морском деле. Часто направления работы Меграбова и Друзя пересекались. Например, когда разрабатывал тему по докованию судов в ледовых условиях, возникла идея о создании мягкооболочных конструкций для поддержания майны перед доком. В моем дипломе она прозвучала. Вся моя научная работа шла на стыке исследований по судоремонту и мягким оболочкам. И конечно, мои научные руководители, Меграбов и Друзь, были Учителями с большой буквы.
– По какой специальности вы учились в аспирантуре и где проходила защита диссертации?
– Учился по специальности «теория корабля», а кандидатскую защищал в Николаевском кораблестроительном институте. Диссертация называлась «Статический расчет пневмопанельных конструкций». Удивительно, но опять вышел на тему доков...
– Сергей Алексеевич, вы были очень молоды, когда получили назначение замполитом судомеханического факультета, а потом заместителем декана СМФ. Как вчерашний курсант чувствовал себя в роли воспитателя?
– Когда я, молодой кандидат наук, приехал к родителям и сказал, что буду замполитом факультета, это очень сильно расстроило маму и папу. Но сегодня понимаю, что мои наставники поступили мудро. Большим плюсом советского времени было то, что росту кадров на всех уровнях уделялось огромное внимание. Каждую маленькую управленческую ступеньку надо было пройти, чтобы расти дальше. И нам давали эту возможность проявить себя, критически оценить свои возможности, умение реально взаимодействовать с людьми. Пребывание в должности замполита было не очень длительным, но для меня чрезвычайно полезным. Потом стал заместителем начальника судомеханического факультета по учебной работе. Мы работали вместе с Владимиром Федоровичем Гамановым. Случилось так, что он ушел в отпуск на длительное время: у него были яхтенные соревнования. Я остался исполняющим обязанности начальника факультета, а тут начался учебный год, и надо было организовать колхозную эпопею...
– Именно в такой ситуации нелегко найти общий язык с курсантами и преподавателями...
– Знаете, мне родственники однажды сказали, что с детьми разговариваю как со взрослыми. Но дети-то воспринимают такое отношение нормально! Я вообще никогда ни с кем не разговаривал «по-разному». Вот и с курсантами говорил как с коллегами. Со всеми ровно и доброжелательно, а самое главное – с верой в человека. Признаться, жизнь мне преподносила и преподносит много сюрпризов. Бывает обидно. Но исхожу из того, что, взаимодействуя с человеком, верю в него.
– В 1996 году вы стали заместителем начальника академии по научной работе, а шесть лет спустя – проректором по научной работе. Какие задачи были для вас приоритетными в этот период работы? Что удалось сделать?
– Очень неординарные задачи пришлось решать. Первая была полностью научной, зато вторая никакого отношения к ней, казалось, не имела. Дело в том, что Сергей Оттович Франк, который был в ту пору министром транспорта РФ, поставил перед нами задачу стать первым морским университетом России. Дорасти до университета – означало подтянуть как минимум десять параметров, по которым оценивалась научно-исследовательская работа. А это открытие новых специальностей в аспирантуре, увеличение объема научных исследований, объемы научных публикаций, количество международных конференций и так далее. Цель стать университетом автоматически рождала целый веер вопросов, которые пришлось решать на ходу.
– А была еще и вторая задача...
– Да. И суть ее была в том, что вопросы финансирования академии решались очень сложно. Одним из источников его могли быть деньги наших морских организаций – морских администраций портов, а затем Росморпорта, к примеру. Задача была в том, чтобы на научных исследованиях зарабатывать такое количество денег, которое позволяло бы докармливать курсантов.
– Докармливать?
– Именно так, поскольку в те годы ощущался острый дефицит средств на содержание академии.
– Да, помню, начальник Морской академии Владимир Гаманов рассказывал, что на питание курсанта выделялось 6 рублей в день, в то время как булка хлеба стоила в четыре раза дороже...
– Так и было. Поэтому большим подспорьем были средства, которые зарабатывала наша наука. Они шли на оплату отопления, а также питания и обмундирования курсантов. Сегодня важно, чтобы наука зарабатывала столько, чтобы у вуза была возможность развиваться. Для этого необходимо сохранить научные школы и придать им новый импульс развития, привлекая талантливую молодежь.
– Что сегодня, по вашему мнению, является наиболее важным в научно-образовательной политике государства, в том числе в морском образовании? Какие аспекты его развития были затронуты летом нынешнего года на конференциях в Санкт-Петербурге, посвященных проблемам морской отрасли? Что позитивного вы извлекли для себя из участия в этих конференциях?
– Я увидел там пример, который полностью укладывается в концепцию, которой мы сейчас стараемся следовать. В Латвии есть маленькое частное морское учебное заведение. Казалось бы, ему очень трудно найти свою нишу на рынке образовательных услуг. При этом у него два образовательных стандарта: надо соответствовать и общеобразовательным стандартам Министерства образования и по конвенционному требованию выполнять стандарт Министерства транспорта. Что сделали латыши? Организовали такую схему подготовки, которая заточена под конкретные нужды конкретной судоходной компании. Те ребята, которые пошли по этому пути, востребованы и гарантированно получают работу именно в данной компании.
Это практико-ориентированная технология обучения специалистов. Сегодня главное в нашем морском образовании – наладить самый тесный контакт между учебным заведением и судоходной компанией. Тогда мы станем учить наших ребят не абстрактно, а мотивированно. Все это прозвучало на конференции в Петербурге. И в речи генерального секретаря ИМО, и во многих других выступлениях был сделан акцент на качестве практической подготовки: сегодня настало время реального участия судоходных компаний в образовательном процессе морских вузов. Впрочем, оно было всегда.
– Для вузов, расположенных в европейской части России, страны Азиатско-Тихоокеанского региона – дальнее зарубежье. А для Морского государственного университета – это близкие соседи и, по сути дела, сфера активного приграничного сотрудничества. Очевидно, именно этим определяются главные направления международной деятельности МГУ?
– Университет обязан поддерживать международные связи – это уже стандарт. Ни один университет сегодня не может себе позволить обходиться без международной деятельности. Но надо учитывать, что мы всегда были учреждением закрытого типа и стали открытым учебным заведением только после того, как открылся порт Владивосток. Тогда и начали формировать международную деятельность фактически с нуля. Первым этапом в 90-е годы было этакое сканирование ситуации. Набирались опыта, чтобы завоевать доверие зарубежных партнеров. Его не завоюешь ни эффектными презентациями, ни культурным общением, ни дружескими встречами. Оно требует системности, последовательности и постепенности. Все, что было сделано в 90-е годы, именно в таком ключе и проводилось: мы действовали очень осторожно и, слава богу, не сделали ничего непоправимого. В новом тысячелетии появились реальные партнеры, которые выбрали именно нас на конкурентной основе, сделали ставку на наш университет.
Таким примером я бы назвал взаимодействие с компанией «Вьетсовпетро». Она очень долго присматривалась, оценивала и, в конце концов, приняла решение. Теперь мы активно сотрудничаем. Конечно, мы очень хотим укрепить связи с Кореей, как с Южной, так и Северной. Это еще один наш стратегический партнер. И, без сомнения, еще один партнер – это Китайская Народная Республика, два мощных морских учебных заведения – Шанхайский и Даляньский университеты. Считаю, что те совместные программы, которые мы уже реализовали, – это серьезное достижение. И наконец, кому как не Морскому университету выстраивать качественное международное сотрудничество во время совместного плавания на судах? Это интересно и полезно всем – и курсантам, и преподавателям.
– Одной из актуальных проблем образовательной политики государства в последние годы становится укрупнение вузов. Формируются университетские комплексы – мощные научно-образовательные кластеры. Как это выглядит на примере нашего МГУ?
– Вот здесь надо сказать, что наши учредители – Федеральное агентство морского и речного транспорта и Министерство транспорта РФ – на сегодняшний день, по моему мнению, решили стратегическую задачу, которая стояла перед морским образованием. Сама жизнь подтвердила, что учебные заведения, которые мы называем комплексами, могут успешно существовать и полностью соответствуют этому названию. Они вертикально ориентированы: включают в себя вуз, его филиалы, средние профессиональные учебные заведения и начальные. Все это в едином комплексе. Считаю, что критическая масса была достигнута при создании трех морских и трех речных образовательных транспортных комплексов в России. Основной костяк морского образования России – это Санкт-Петербургский университет имени адмирала Макарова, университет в Новороссийске имени адмирала Ушакова и наш на Дальнем Востоке. Объединять их далее не имеет смысла, поскольку каждое из учебных заведений имеет свою специфику, связанную с выходом России на моря севера, юга и востока. Сейчас стоит другая задача – поднимать качество этих учебных заведений.
– В свое время вы читали капитанам лекции по остойчивости судов. Что, на ваш сегодняшний взгляд – взгляд ректора, – необходимо делать для «остойчивости» морского вуза, где трудятся и обучаются тысячи людей?
– Серьезные вопросы задаете... Самое главное, чтобы наше учебное заведение не потеряло свое лицо. Это означает, что задачи, которые стоят перед университетом, надо решать на системной основе и с хорошим качественным результатом осуществлять подготовку специалистов, в которых нуждается наша транспортная отрасль. И здесь простыми фразами не отделаешься. Университет – это очень сложный организм, и все его звенья важны. На первом месте, конечно, кадровый вопрос. Какими бы красивыми ни были стены и современными тренажеры, ничего не получится, если нет квалифицированных специалистов. Здесь, наверное, самое главное даже не в конкретных управленцах, преподавателях и научных сотрудниках. Главное, чтобы в нашем университете действовала система непрерывной подготовки кадров, специалистов именно для нашего вуза.
Сегодня мы сильно страдаем от того, что эта система была порушена в 90-х годах. Конечно, мы работаем над тем, чтобы вернуть утраченное. Например, на Попечительском совете вместе с нашим Ученым советом заключили конкретное соглашение. В нем оговорены конкретные вещи, и если они начнут работать, результат будет. «Совкомфлот» принял решение каждый год оказывать поддержку пяти лучшим выпускникам плавательных специальностей по особой схеме. Мы им даем возможность работать по очень выгодному контракту в СКФ. Выбираем самых подготовленных наших аспирантов, отлично владеющих английским языком. Доплачиваем им столько, чтобы у нас было выгодно и почетно работать. Наши коллеги в Новороссийском морском университете имени адмирала Ушакова уже культивируют подобное.
– Есть шутка, что самое постоянное в нашей жизни – это перемены. Каких перемен вы желаете Морскому университету накануне юбилея?
– Наверное, все-таки не перемен, а стабильности. Очень хотелось бы, чтобы юбилей был хорошим поводом задуматься всем нашим партнерам о том, что надо не на словах, а на деле системно и регулярно взаимодействовать с нашим вузом. Очень мудро поставил задачу наш председатель Попечительского совета Сергей Франк: создать системную долгосрочную структуру в виде фонда, который будет постоянно пополняться и станет основой для устойчивой работы. Это было бы очень живое и конкретное дело, и оно создало бы мотивацию работать лучше.
– Чего бы вы хотели достичь как ректор? У вас есть цель и мечта?
– Моя мечта связана с моей ответственностью. А моя ответственность – обеспечить непрерывное развитие университета. И следовательно, обеспечить преемственность кадров на всех абсолютно уровнях: на уровне преподавателей, на уровне начальников факультетов и кафедр, на уровне директоров институтов и на уровне ректора. Должна быть воспитана смена, которая в назначенное время надежно возьмет управление всеми структурами университета. Это самая главная задача. Все остальное решаемо, а вот над этим надо работать и работать…
Морской флот№5 (2015)