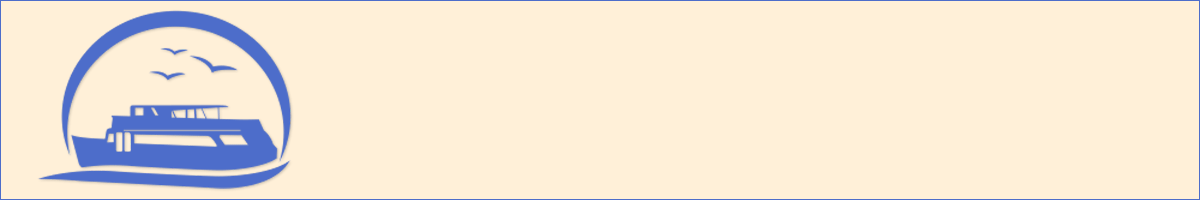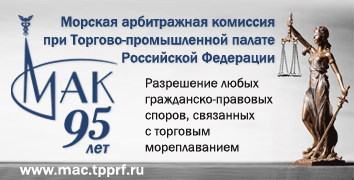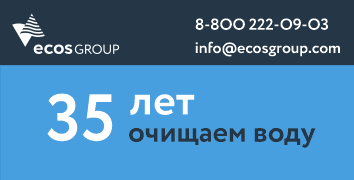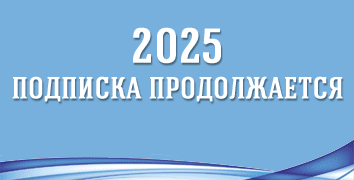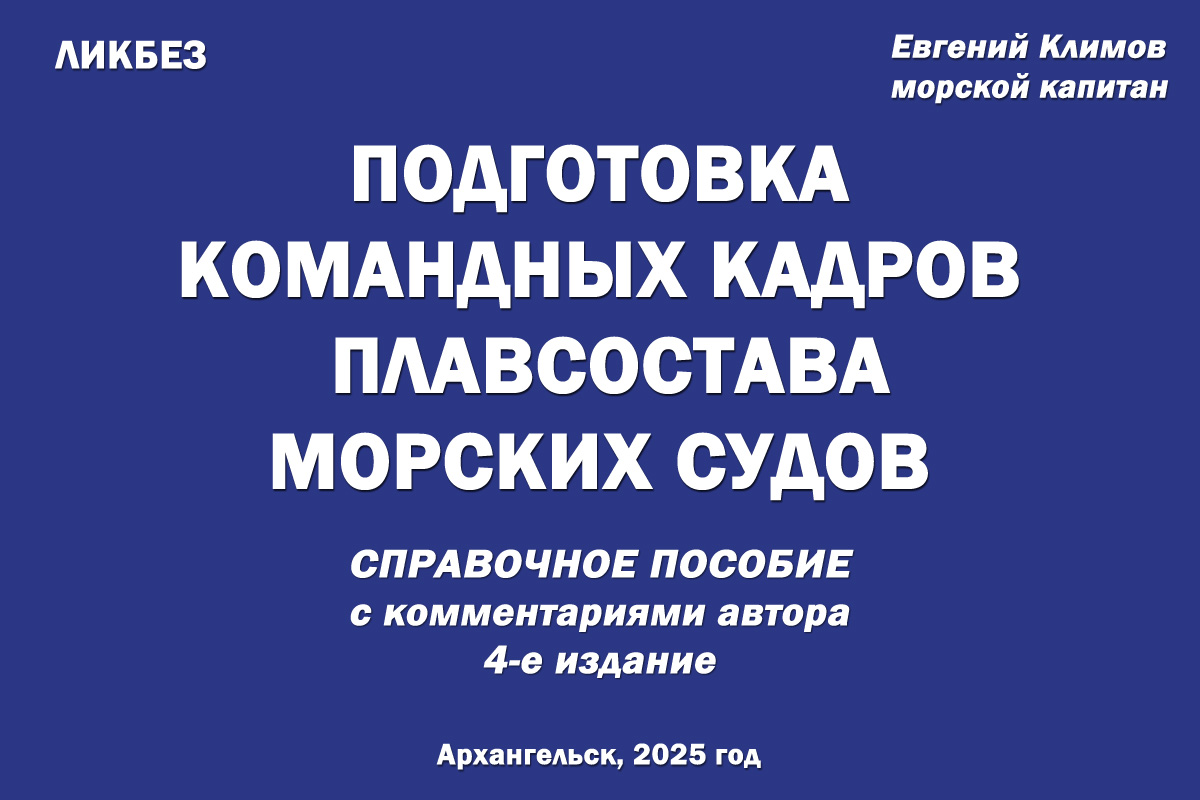О лекциях, лекторах и стандартах образования
27.12.2016
Образование

Проблема хорошего образования была актуальной во все времена. Одновременно с ней бок о бок существует другая – проблема учителя. Хорошего учителя. По мнению Сократа, «самые трудные профессии: учить, лечить и судить». Из этих трех профессий самой трудной, на мой взгляд, следует считать профессию учителя, которому приходится и учить, и лечить, и судить.
Николай Григорьев, профессор кафедры «Технические средства судовождения» ГУМРФ имени адм. С.О. Макарова
Дефицит лекторов
В сфере мирового судоходного бизнеса навыки преподавания в морских учебных заведениях объявлены критическими. Понятно, что необходимо создать более профессиональных лекторов.
Проблема профессиональных лекторов касается и всего российского образования. По мнению современных российских чиновников, лектором может быть любой человек, подобно тому, как чиновником может быть даже тот, кто не является специалистом в данной отрасли. Порочность такой практики высмеивали еще Сократ и Салтыков-Щедрин. Сократ считал нелепостью «распределять государственные должности по жребию, в то время как никто не захочет взять по жребию кормщика, архитектора или музыканта». Настали новые времена, и эти должности «пошли с молотка». Это было наглядно продемонстрировано в период распада Советского Союза. Из вузов ушли молодые и наиболее способные преподаватели, количество самих же вузов стремительно выросло, а вакантные места заполнили (разумеется, не везде) люди случайные.
Между тем даже крупные специалисты не всегда способны читать лекции. Примеров тому достаточно. Академик А.Н. Крылов написал в своих воспоминаниях, что член-корреспондент Петербургской АН И.П. де-Колонг, крупнейший специалист в области уничтожения девиации магнитного компаса, совершенно не умел читать лекции. Н.К. Рерих пишет: «Жаль, что философию права читал Бершадский – как горох из мешка сыпал». В. Набоков так вспоминает свое пребывание в Кембридже: «По утрам молодцы эти, схватив в охапку тетрадь и форменный плащ, спешат на лекции, гуськом пробираются в залы, сонно слушают, как с кафедры мямлит мудрая мумия, и, очнувшись, выражают одобренье свое переливчатым топаньем, когда в тусклом потоке научной речи рыбкой плеснется красное словцо».
Чтение лекций – это дар, которым обладают немногие. Помимо владения словом необходимы методики – добротные методики, а они не продаются в супермаркете. Как сказал математик Дж. Полиа, «хороших методик ровно столько, сколько хороших учителей». Именно так, а не иначе. Ровно столько, сколько хороших учителей!
Но успешность применения методик требует, чтобы и у учащегося был интерес. Интерес к науке не рождается сам по себе, его нужно формировать через мотивацию. Делать это в морском учебном заведении непросто. Во-первых, морские профессии попали в разряд непопулярных. К примеру, в книге Е.С. Романовой «99 популярных профессий (психологический анализ и профессиограммы)» морских профессий вообще нет.
Опрос слушателей курсов повышения квалификации в ГМА имени адмирала С.О. Макарова показал, что 84% моряков не готовы рекомендовать морскую профессию своим детям и родственникам, так что рассчитывать на продолжение династий не приходится.
Еще более непрестижной стала самая главная морская профессия – преподаватель. Причина тривиальная – заработная плата. Если не вернуть профессии преподавателя статус самой престижной, то все начинания обречены на провал.
Н.К. Рерих писал: «Срам стране, где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствующий человек. Не только срам народу, который не заботится об учителях будущего поколения, но знак невежества. Можно ли поручать детей человеку удрученному? Можно ли забыть, какое излучение дает горе? Можно ли не знать, что дух подавленный не вызовет восторга? Можно ли считать учительство ничтожным занятием? Можно ли ждать от детей просветления духа, если школа будет местом принижения и обиды? Можно ли ощущать построение при скрежете зубовном? Можно ли ждать огней сердца, когда молчит дух? Так говорю, так повторяю, что народ, забыв учителя, забыл свое будущее».
Без синергии
Сочетание непрестижности морских профессий и «удрученности» преподавателя не способствует формированию предпосылок у аудитории к возникновению такого явления, как синергия. Синергия – это когда суммарный эффект взаимодействия преподавателя и учащихся характеризуется существенным усилением эффекта от лекции за счет того, что знания, полученные общими усилиями у обеих сторон, превосходят те, что были до их встречи. Вот и получается, что «целое больше, чем сумма отдельных частей» (Аристотель).Синергию можно сравнить с явлением резонанса, когда даже при малом воздействии ответная реакция многократно возрастает (в радио и в динамически настраиваемых гироскопах резонанс – полезное явление, а в мостовых конструкциях при резонансной качке судна это явление вредное). При нынешнем состоянии образования о синергии можно только мечтать.
Лектор должен эффективно стимулировать и раскрывать потенциал других людей, что сделать в условиях, когда образование сведено к стандартам типа пресловутого ЕГЭ, когда Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает разработать «стандарт учителя», невозможно.
Стандарты и программы не создают специалистов. Специалистов создают отношения всех заинтересованных сторон: учащегося, учебного заведения, судоходной компании.
Увлеченность лектора должна передаваться учащимся и должна подтверждаться на практике. Отсутствие у преподавателей стажировок на судах, отсутствие учебного флота, где преподаватели могли на практике демонстрировать лекционный материал, снижает или сводит на нет усилия лектора.
М.В. Ломоносов в «Кратком руководстве к красноречию» пишет: «Доводов иногда недостаточно, чтобы привлечь слушателя на свою сторону. Чтобы с успехом приводить в действие силу красноречия, надо знать нравы человеческие». Великий ученый предлагает учителю понять, как и от чего рождается страсть у слушателей в процессе обучения, но проявить интерес к знаниям невозможно у тех, кто пришел в вуз за дипломом, а не за знаниями.
Однако современному российскому образованию нет дела до нравов человека, и на морском флоте особенно. При решении кадровых проблем судоходный бизнес уже давно нашел «выход» в глобализации кадрового рынка, которая позволяет использовать дешевую рабочую силу из стран с низким уровнем образования или стран, испытывающих экономические трудности.
Замкнутость пространства, продолжительность контрактов (по данным ИМО, профессию моряка делает непопулярной продолжительность контрактов), социальная несправедливость при оплате за равный труд и дифференциации продолжительности контрактов в зависимости от страны поставщика рабочей силы сказываются на безопасности мореплавания.
Немудрено, что под влиянием этих обстоятельств морские профессии попали в разряд непрестижных. И, как следствие, снижается качество подготовки моряков. Это проблема всего мирового судоходного бизнеса.
Центр массовой подготовки моряков переместился в страны Юго-Восточной Азии, где особо остро ощущаются проблемы занятости населения, где низкий уровень образования.
Современное состояние надежности судового оборудования и высокий уровень автоматизации позволяют глубокие знания заменить поверхностными. В таком походе есть два изъяна. Первый – следование стандартам надежно действует только при штатных ситуациях. При возникновении нештатной ситуации низкий уровень подготовки неминуемо повлияет на качество принимаемого решения. Известно, что неполнота информации способствует принятию рискованных решений. Второй изъян – человек неспособен реализоваться как личность, потому что решается только проблема выживания. До самореализации дело не доходит, а от этого возникает чувство неудовлетворенности. Человек, который не получает удовлетворения от выполняемой работы, – плохой работник.
Тупики экономии
Экономия на образовании привела к тому, что сроки обучения сведены до минимума; упор сделан на практическую подготовку, которая без теоретической подготовки дает возможность выполнять работы на уровне «конвейера», с той лишь разницей, что действий больше, поэтому действия прописаны в чек-листах. Но учитывая размеры современных судов, объемы перевозимых грузов, степень их опасности для жизни моряков и окружающей среды, уровень компетентности, ограниченной рамками чек-листа, чреват серьезными последствиями. Не об этом ли притча, рассказанная Буддой? «На корабле плыл продавец обезьян. На досуге он научил питомцев подражать морякам, как те распускают паруса. Поднялась буря, моряки бросились убирать снасти. Обезьяны, зная лишь, как распускать, шли следом и натягивали снасти. Корабль погиб, ибо учитель животных предвидел лишь ясную погоду».
Недобросовестность и недальновидность судовладельцев способствовали низкому уровню подготовки моряков, а это, в свою очередь, породило новый вид деятельности в сфере судоходной индустрии (как, впрочем, и в других отраслях) – контроль. Всякое расследование аварий неизбежно заканчивается требованием «усилить контроль». Под «контроль» требуется подвести законодательную базу, которую творят специалисты, часто далекие от судоходства. Нечеткость формулировок приводит к неоднозначному толкованию документов. В результате к объемным и не вполне вразумительным документам плодятся комментарии, еще более невразумительные. И эта несуразица становится источником извлечения прибыли. В результате проблема безопасности мореплавания тонет в деталях и задыхается от нехватки знаний.
Поток информации, обрушивающейся сегодня на моряка, способен парализовать любую полезную деятельность. Обилие бумажной работы – еще одна проблема, которая делает профессию моряка непопулярной (34,1% опрошенных, по данным ИМО). Сведений об объемах расхода бумаги по отечественному морскому флоту нет, есть данные из Великобритании: расход бумаги формата А4 там в 1980 году составил 20,1 млрд листов, а в 1995 году – уже 108,5 млрд листов. Обилие бумажной работы даже отодвинуло на третье место «бич» современного морского флота – усталость, которая вошла в тройку причин, делающих морскую профессию непопулярной (22,3% опрошенных). А ведь усталость в числе прочих причин является следствием обилия бумажной работы. Генри Форд это хорошо понимал и неустанно на своих предприятиях внедрял принцип: «Поменьше административного духа в деловой жизни и побольше делового духа в администрации».
В конференциях, проводимых ИMO, обращается внимание на неоправданно длинные текстовые документы – too long text.
Сочетание обилия информации с проблемой восприятия этой информации негативно сказывается на состоянии безопасности мореплавания. Как показали исследования, проводимые в Морском колледже ГМА имени адмирала С.О. Макарова, у абитуриентов в группе качества умственной работоспособности оказались ниже нормы: у 40% – вербальный интеллект, у 37% – интеллектуальная лабильность (способность к обучению), а у 30% – общая осведомленность.
Чиновники от образования стремятся решить проблему повышения качества образования инновационными методами. Страсти вокруг новых образовательных технологий, о которых много говорили в последние 10-15 лет, несколько поутихли. Дальше разговоров дело не пошло. Оно и понятно, инновации в образовании это не компьютер и интерактивная доска, сами по себе они лишь средство постепенного улучшения. Учитель-новатор – вот истинное лицо, способное кардинально повлиять на учебный процесс.
Онлайн-курсы
От понимания этого, а скорее всего от стремления «оптимизировать» учебный процесс (под термином «оптимизировать» следует понимать снижение объемов финансирования образования) появилось новое веяние. В газете «Ведомости» от 17 апреля 2015 года опубликован очередной опус «Российское образование уходит в онлайн», где говорится: «С запуском Национальной платформы открытого образования некоторые педагоги могут остаться не у дел (курсив автора)». Ректор МИСиС Алевтина Черникова утверждает: «Мы не рассматриваем проект по открытому образованию как коммерческий. Мы рассматриваем любой образовательный проект не с точки зрения его прибыльности, а прежде всего как расширение возможностей формирования индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося». По представлениям ректора, это инновационная платформа; возможность для университетов продемонстрировать свои уникальные конкурентные преимущества и разработать качественные курсы от лучших преподавателей страны по тем направлениям, в которых вузы традиционно сильны.
В конечном счете онлайн-курсы, по мнению их создателей, смогут разгрузить педагогов, предоставив им больше возможностей для научной деятельности.
«Появление Национальной платформы приведет к жесткой конкуренции между педагогами, чьи традиционные лекции могут быть замещены онлайн-курсами», – считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее представлениям, теперь педагогам отечественных вузов предстоит бороться за студентов друг с другом. Абанкина не исключает, что во многих вузах в результате может произойти замещение целых направлений онлайн-обучением – «это может быть не только качественнее, но и гораздо дешевле».
«Качественные образовательные онлайн-курсы значительно расширяют спектр возможностей получения образования по самым высоким стандартам, – считает Черникова из МИСиС, – студенты сами смогут выбирать, в каком университете им изучать тот или иной курс, получат возможность обучения у лучших преподавателей страны».
Так или иначе, студент должен использовать экран, будь то телевизор или компьютер. Как свидетельствуют исследования западных ученых, телевидение является одной из причин снижения интеллектуальных способностей человека. Немецкий ученый Райнер Пацлаф, исследовавший воздействие телевидения на физиологию человека, пришел к неутешительному выводу: чем больше человек тратит время на просмотр телепередач, тем меньшим объемом знаний он обладает. По мнению исследователей, цепочка визуального ряда телесюжета лишает зрителя необходимости конструктивно мыслить, а организм во время просмотра телепередач впадает в некое подобие анабиоза. В качестве доказательства Райнер Пацлаф приводит следующие цифры: «Если мы просто лежим на кровати и отдыхаем, то расходуем энергии на 14% больше, чем в том же положении, но просматривая телепередачи. А пульс при этом замедляется на 10%».
Прикрываясь «благими» намерениями – добиться повышения качества образования – изобрели стандарты образования и компетентностные принципы. Это поветрие, скорее всего, пошло с морского флота, где в качестве рабочей силы часто используют специалистов низкой (правильнее сказать – сомнительной) квалификации. К аналогичным мерам прибегли и области российского образования, когда несостоятельность реформ стала очевидной.
Между тем вопросы компетентности в области мореплавания кратко, точно и образно сформулировал еще академик А.Н. Крылов: «Морские науки без практики – бесплодны, морское дело без теории – пагубно».
Но теория, прочитанная «издалека», может быть не менее пагубной. Ведь читая лекцию с экрана, преподаватель лишен доверительного общения. Доверительное общение позволяет отойти от канонов и прибегнуть к аналогиям и метафорам, когда лектор видит, что возникла проблема в понимании излагаемой темы.
Эгоистичная заинтересованность
Единение преподавателя (который, к великому счастью студентов, не является «стандартом») и учащихся блистательно описал А.П. Чехов в рассказе «Скучная история»; его герой – нестандартный преподаватель. Вот как он сам оценивает свои способности как лектора: «Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотипное «в прошлой лекции мы остановились на...», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и – пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно кроме таланта иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения… Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лиц, не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это – бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого, или наоборот».
Сегодня со всей очевидностью следует признать, что заинтересованность всех участников судоходного кадрового рынка носит эгоистичный, потребительский характер. Взаимоотношений между судоходным бизнесом и учебными заведениями нет; их еще предстоит выстраивать. Упреки в адрес морского образования справедливы лишь частично.
Закон Бока гласит: «Если считать образование чрезмерно дорогостоящим – попробуйте, во что обойдется невежество». Российское образование с этим столкнулось, вот только чиновники признать это упорно не хотят. В результате плодятся новые изысканные приемы, хотя ясно, что советская система образования была самой лучшей в мире. Это признавали наши недоброжелатели. Всем известны слова Джона Кеннеди: «Мы проиграли русским космос за школьной партой». Сегодня жизненность и эффективность советской системы образования демонстрируют Китай и Индия.
Профессор Царскосельского лицея А.П. Куницын считал: «Наука только тогда имеет совершенный вид, когда все положения оной составляют непрерывную цепь и одно объясняется достаточно другим».
Для обеспечения непрерывности цепи требуется связь всех звеньев, это могут обеспечить гуманитарные дисциплины.
Для того чтобы все положения науки составляли непрерывную цепь и одно достаточно объяснялось другим, требуется не только словарный запас, но и нечто большее – умение распорядиться мыслеобразами так, чтобы принять решение, а более того – донести суть до других. Сделать мысль понятной для ее воспроизведения в других ситуациях, допуская при этом разумную интерпретацию, при которой сама суть останется неискаженной. Это возможно только при условии, что люди вполне понимают друг друга на обыденном или профессиональном уровне. Выражая через многообразие чувств мысли, требуется контроль над восприятием информации. Без этого лекция теряет смысл. В противном случае происходит то, что описал В. Набоков в рассказе «Отчаяние»: «Я глядел на вывески, находил слово, таившее понятный корень, но обросшее непонятным смыслом».
В психологии есть редко применяемый термин «плато на кривой обучения». Суть состоит в том, что в процессе обучения возникает ситуация, когда ученик вроде бы и учит, а результата нет. Вот как это явление комментирует Рон Хаббард: «Единственная причина, из-за которой человек бросает учебу или сбивается с толку либо становится неспособным к обучению, заключается в том, что он пропустил слово, которое не было понято. Случалось ли с вами, что, прочитав страницу, вы осознавали, что ничего из прочитанного не помните? Что же, где-то на этой странице вы пропустили слово, значения которого вы не поняли или поняли неправильно».
Это метко подметил А.П. Чехов в рассказе «Свадьба с генералом», когда отставной контр-адмирал Ревунов-Караулов рассуждает о службе на морском флоте: «Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное... ээ... недоумение...». Сегодня, когда на флот приходят недоученные моряки, когда им приходится работать в многонациональных экипажах, «таинственное недоумение» становится угрозой безопасности мореплавания. Поэтому роль преподавателя морского учебного заведения сегодня особенно велика; он должен придавать словам смысл, которого они лишены в словаре.
Нобелевский лауреат Г. Селье в книге «От мечты к открытию» рекомендует: «Включайте в лекцию лишь «сливки» своих познаний, оставляя себе для маневра широкое и безопасное поле накопленных знаний – тот резерв, куда вы могли бы отступить либо под воздействием собственной речи, либо руководствуясь реакцией аудитории». Увы, учитывая нынешний провал в образовании, лектору нужно все больше спускаться на уровень популяризации. Но это требует также способности маневрировать, руководствуясь реакцией аудитории.
В Агни-Йоге сказано: «Преступление противу знания самое тяжкое. После него молчит милосердие».
«Милосердие», особенно в области морского образования, нужно государству. Морской флот был и остается одним из источников благосостояния России. Правительству следовало бы это иметь в виду, прежде чем формировать рейтинг вузов по критериям престижности. Престижность должна исходить из целесообразности деятельности специалистов, которые придут в отрасли.
В статье использовано много цитат. Автор пошел на это сознательно – в своем Отечестве пророков нет, но есть надежда, что прошлый опыт хоть чему-то нас научит и российское образование вырвется из колеи невежества.
Морской флот №5 (2015)