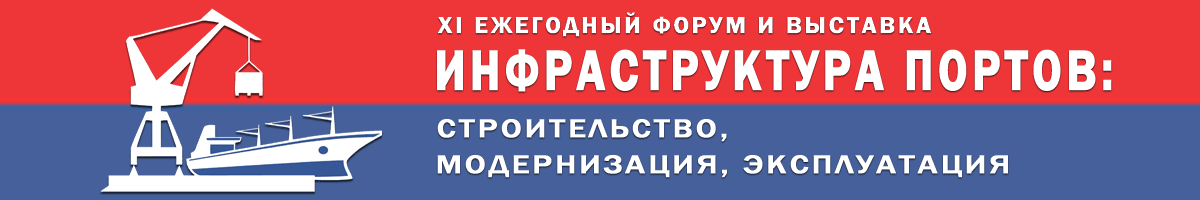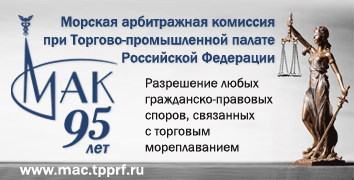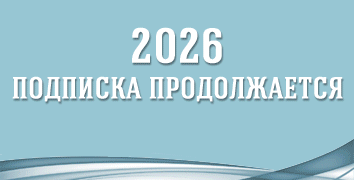Михаил Романовский: «СОРОСС был первым»
03.11.2014

В апреле исполнилось бы 20 лет со дня основания первого в судоходном сообществе новой России профессионального союза судовладельцев – Союза российских судовладельцев (СОРОСС). О том, как создавался, а главное, что сделал за время своего существования первый российский судовладельческий союз, какой оставил след в отрасли, какими делами запомнился бизнес-сообществу, в интервью газете «Морские вести России» рассказал президент Союза в период 1994-2013 гг., а с октября 2013 г. вице-президент Союза «Национальная палата судоходства» (СНПС) Михаил Романовский.
«МВР»: Михаил Александрович, все же, как получилось, что СОРОСС, который был создан без малого 20 лет назад начальниками советских морских пароходств, ставших в новых экономических условиях судовладельцами, и в состав которого в лучшие времена входило до 100 организаций-членов, перестал существовать?
– Союз российских судовладельцев не ликвидирован, организация просто перешла в другую юридическую правовую форму. В прошлом году по решению членов совета Союза было принято решение о его реорганизации путем присоединения к Союзу «Национальная палата судоходства». Приняли это решение почти единогласно, всего при одном воздержавшемся. И все лучшее, что было наработано в Союзе за два десятилетия, перешло в СНПС. В том числе, например, такая организационная форма работы, как комитеты по основным направлениям деятельности, которых не было в АСК. Или филиалы, которые Союз активно использовал в работе с судоходными компаниями на местах. Также в палату перешла часть специалистов из аппарата СОРОССа, которая сегодня здесь полностью востребована.
Конечно, чисто по-человечески мне жаль, что больше нет Союза российских судовладельцев. Это была устоявшаяся организация, в ней за 20 лет появились и укрепились свои собственные традиции. Но, с другой стороны, мне стало в последнее время достаточно сложно работать. В частности, члены – организации Союза стали задерживать уплату членских взносов, и, как результат, у нас начались проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам. В таких условиях не уверен, что аппарат, специалисты Союза, да и сам Союз смогли бы полноценно функционировать.
«МВР»: Сегодня, спустя 20 лет после создания Союза российских судовладельцев и его трансформации в Союз «Национальная плата судоходства», хотелось бы вспомнить, каким образом тогда, 20 лет назад, в очень непростое время развала экономики страны, хаоса приватизации и разгула бандитизма, создавался СОРОСС, как понимали его цели и задачи, структуру и методы работы сами учредители?
– Союз российских судовладельцев был зарегистрирован 19 апреля 1994 года. Он возник не на пустом месте, до него недолгое время на флоте была Ассоциация советских судовладельцев (АСОС), но с развалом СССР и ликвидацией Министерства морского флота она прекратила свое существование. Министерство морского флота расформировали в 1991 году. Взамен тогда же было создано Министерство транспорта России. На смену централизованному государственному управлению пришла принципиально новая система, появился частный бизнес. У нас тогда возникло ощущение потери управляемости в отрасли, которую необходимо было как-то компенсировать. Кроме того, надо было защищать и интересы только зародившегося морского бизнеса. Выполнить эту непростую задачу на тот момент могло только объединение профессионалов, какими и были руководители морских пароходств.
На учредительном собрании СОРОССа присутствовали представители 10 компаний-учредителей, т.е. начальники всех главных российских морских пароходств: Камчатского, Сахалинского, Дальневосточного, Приморского, Мурманского, Северного, Новороссийского, Балтийского. Также среди учредителей были Морской банк и «Совфрахт». АКП «Совкомфлот» на первое заседание не пригласили по инициативе части пароходств из-за того, что на тот момент они вели судебные споры с компанией по поводу принадлежности части торгового флота. Первым президентом СОРОССа был избран Леонид Иванович Лоза, которому пришлось совмещать свою новую общественную должность в Союзе с работой начальника Новороссийского морского пароходства. В дальнейшем, кстати, практика показала полную неэффективность подобного совмещения.
Могу подтвердить, что создание делового союза для защиты своих интересов было полностью добровольной инициативой всех начальников морских пароходств. Решение о создании СОРОССа принималось каждым из них безо всякого нажима и принуждения. Потому что все понимали, что для того чтобы представлять и защищать идеи и позиции своих пароходств, должен быть создан общественный орган, который будет располагаться в Москве, поблизости от правительственных органов.
Вначале было принято только соглашение об ассоциации, и лишь через год члены СОРОССа приняли решение создать постоянный рабочий орган Союза, арендовать помещение, набрать штат специалистов. И мне сделали предложение возглавить новую организацию в качестве президента Союза российских судовладельцев.
При этом параллельно с нами существовала Российская ассоциация независимых судовладельцев. Ее создали по инициативе «Совкомфлота», когда того не приняли в СОРОСС. Но эта ассоциация просуществовала недолго, они скоро поняли, что бессмысленно делать дублирующую работу, и влились в наш состав. Таким образом, и «Совкомфлот» стал полноправным членом СОРОССа.
В дальнейшем, по мере того как Союз рос и развивался, у нас появились помимо центрального офиса в Москве и три отделения в регионах – в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске. Это было сделано потому, что, находясь в Москве, трудно, да и невозможно результативно работать с компаниями – членами Союза, которые расположены на периферии страны. Поэтому были созданы филиалы Союза на местах, подобраны помещения и специалисты.
«МВР»: Какие задачи стояли перед этими филиалами, а главное, какую пользу приносило членство в СОРОССе судоходной компании?
– Первая функция, которую выполняла общественная организация, – информационная. Все, что делалось на федеральном уровне и выходило в виде законов и подзаконных актов, доводилось до сведения судоходных компаний, как мелких, так и крупных. Ведь небольшие компании, в отличие от крупного бизнеса, эту массу информации просто не в состоянии были отследить и переварить. В результате российские судовладельцы – члены Союза знали все действующие нормативно-правовые акты, затрагивающие морской бизнес: по таможне, налогам, сборам, безопасности мореплавания, регистру, требованиям порта и т.д.
Всегда СОРОСС приходил на помощь своим членам в конкретных ситуациях, если они попадали в сложное положение. Скажем, выдвигали налоговую или таможенную претензию. Каждый раз надо было разбираться в законности указанных претензий.
Затем мы помогали крюинговым компаниям в поисках кадров, связывались с профильными училищами. Оказывали помощь, когда суда попадали в разные коллизии в Мировом океане. Иногда в сложных случаях приходилось вести переписку и на правительственном уровне. Например, была неприятная ситуация с российскими судами в Туркмении. Местные власти были плохо знакомы с морскими обычаями и международным законодательством: они не обеспечивали экипажи судов водой и провиантом, не разрешали морякам сходить на берег. Даже были случаи ареста судов. В результате я лично два раза писал официальные письма президенту Туркмении, объясняя ему, что существуют международные законы и нормы морского права, которых следует придерживаться. В противном случае СОРОСС обещал дойти до ООН, чтобы уже самая высокая международная организация объяснила туркменским властям, где они не правы. И помогло! Нам очень быстро ответили, что наведут порядок и не будут больше нарушать международные нормы.
Или был другой очень неприятный случай у берегов Канады. Там судно Приморского морского пароходства столкнулось с канадским «рыбаком», и суда основательно процарапали друг друга. Хотя человеческих жертв не было, канадцы отреагировали жестко, арестовали экипаж, посадили второго помощника в тюрьму. И мы боролись за свободу моряков, чтобы экипаж выпустили из-за решетки. В конце концов нас услышали, и моряки вернулись домой.
Также Союз принимал меры по организации охраны российских судов во времена расцвета сомалийского пиратства. Вместе с другими организациями наши специалисты работали в тесном контакте с Главкоматом ВМФ, чтобы военные корабли были посланы в районы пиратских действий. В результате наш военно-морской флот организовал и до сих пор ведет постоянное конвоирование как российских торговых судов, так и судов других стран.
Но самое главное в нашей работе – это, конечно, экономика, совершенствование законодательной базы, регулирующей правила деятельности бизнеса в области морских грузоперевозок и тем самым повышающей конкурентоспособность флота под отечественным флагом. К сожалению, в этом плане дела в судоходном сообществе далеки от желаемого. Мы еще недавно, буквально несколько лет назад, с тревогой констатировали, что уровень перевозок внешнеторговых грузов страны флотом под отечественным флагом катастрофически мал – всего 6% от всей грузовой базы России. Казалось бы, куда уж меньше. Но получается, можно – сегодня этот показатель вообще снизился до 2,5%. Практически это означает, что государство продолжает сдавать позиции в этом секторе экономики, отказываясь от очень неплохих денег за перевозки в пользу иностранного тоннажа. Напомню, что в целом объем перевозок в этом сегменте сегодня оценивается в порядка $18 млрд в год.
«МВР»: Известно, что большое видится на расстоянии, поэтому какие наиболее важные достижения в деятельности Союза вы бы отметили сегодня? Какие законы, принятые с участием СОРОССа, сейчас работают в отрасли?
– Союз участвовал в подготовке практически всех постановлений правительства на уровне федеральных законов, подзаконных актов, касающихся морской отрасли. Представители Союза принимали активное участие при подготовке нового Кодекса торгового мореплавания РФ, который был принят Государственной думой в 1999 году. КТМ имплементировал новейшие международные нормы, регламентирующие торговое мореплавание. В нашем составе были знающие люди с опытом работы в Министерстве морского флота, которые очень хорошо разбирались в реалиях судоходства.
Одно из самых заметных наших достижений – закон о Втором реестре. Мы его пробивали не то восемь, не то десять лет. Разумеется, работал не один только СОРОСС и судоходные компании, много усилий приложили государственные органы, включая Минтранс. Но то, что наша организация была в первых рядах, никто не отрицает. Существенные усилия внесли представители СОРОССа в подготовку и принятие уникальной конвенции, регламентирующей трудовые отношения моряков, – Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве, а также в совершенствование российского трудового законодательства при подготовке указанной Конвенции к ратификации (Конвенция вступила в силу в 2013 году).
Мы также принимали участие в подготовке многих законов, касающихся налогообложения, льгот для компаний. СОРОСС был первопроходцем в деле выражения интересов судоходных компаний в новых российских реалиях. Во многом этому способствовал тот факт, что еще в советские времена наши участники работали не только внутри страны, но и за границей, где наряду с советским законодательством действовали и нормы международного морского права. И нам было проще, потому что система управления торговым флотом была уже заточена под международные конвенции. Речникам и портовикам было сложнее приспособиться. Вообще, адаптация новых российских судовладельцев к деятельности, регулируемой международным правом, была одним из самых сложных видов деятельности, но в то же время одним из самых важных.
«МВР»: Сегодня главная проблема – старение флота. Что делал СОРОСС в вопросе обновления флота?
– Строительство флота и получение кредитов на него – дело отдельных судоходных компаний, мы сами не могли этим заниматься. Наша задача – изменение законодательной базы, мы ставили перед собой задачу добиваться снижения ставки по кредитам, чтобы она стала привлекательной. Мы неоднократно ставили перед правительством требование, чтобы наши банки участвовали в строительстве флота. Это сложно, потому что судостроению нужны «длинные деньги», а сегодня получить их из российских банков весьма трудно. Репутация СОРОССа способствовала получению судовладельцами кредитов в иностранных банках. Они знали, что российские судовладельцы являются членами авторитетной организации, стоящей на страже обеспечения безопасности мореплавания.
«МВР»: Что бы вы пожелали Союзу в новом формате?
– Хотелось бы, чтобы наша морская, а теперь и речная деятельность получила новый импульс. И есть надежда, что он будет получен, потому что все чаще и чаще в заявлениях наших государственных руководителей упоминается о развитии национальных аспектов, опора на собственные силы во всех видах деятельности, в том числе и в перевозках. Идеология 90-х «нам не надо ничего развивать, все и так привезут, надо только платить» теперь больше не в чести.
А ведь морской транспорт отвечает в том числе и за нашу национальную безопасность, укрепляет государственную независимость. Имея флот, страна гарантирует себе безопасность внешнеэкономической деятельности, а это уже безопасность всего государства. Но для флота требуется не только словесная помощь государства, а его конкретные действия: и законодательные, и финансовые, и кредитные.
Но все равно Россия остается великой морской державой. Это совершенно справедливо, потому что есть по крайней мере три признака того, что мы этого звания достойны. Во-первых, у нас есть ледокольный флот, как атомный, так и дизельный, подобного которому нет больше ни у кого. Во-вторых, живы профильные учебные заведения, кузницы кадров, которые до сих пор успешно работают и являются одними из лучших в мире. Благодаря этим факторам наша страна и может сегодня называться великой морской державой. А флот мы построим.
Морские вести России №5 (2014)