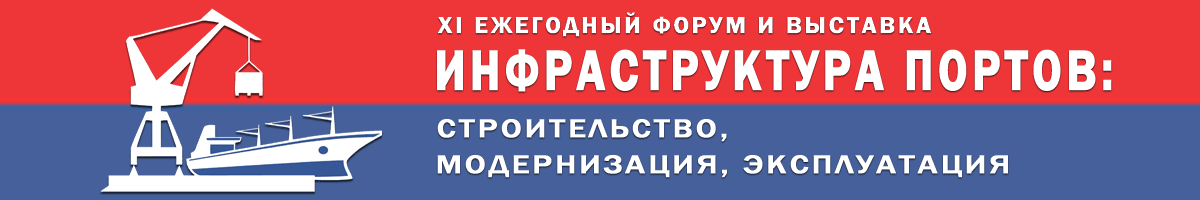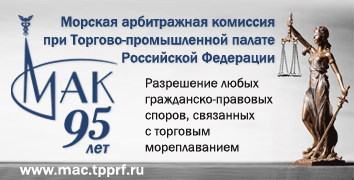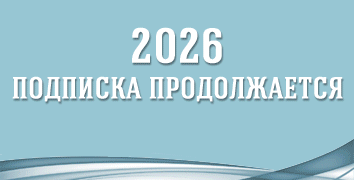Приоритет инфраструктурным проектам
18.01.2010

Несмотря на то, что снижение объемов внешней торговли, вызванное мировым экономическим кризисом, отразилось на работе морской отрасли России, в целом отечественный портовый комплекс сработал в 2009 году неплохо: рост грузооборота морских портов составил 9,2% по сравнению с 2008 годом и достиг 496 млн тонн (сухие грузы – 198 млн тонн, наливные – 298 млн тонн). Увеличение объемов перевалки грузов произошло в основном за счет нефтяных грузов (+11,8%), угля (+19,9%) и зерна (+210%). Зато сильно упали объемы переработки металлов, химических грузов, леса и тарно-штучных грузов в контейнерах – на 30-40%. В отдельных портах, например, Калининграде и Архангельске, общий объем грузооборота снизился почти в 2 раза…
О причинах резкого сокращения некоторых грузопотоков и объемов переработки грузов отдельными портами, а также о том, за счет чего стал возможен рост грузооборота всех российских портов «МП» расспросил руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александра Давыденко.
«МП»: Александр Александрович, то, что морская отрасль лучше других чувствовала себя в течение кризисного 2009 года, видно по показателям годового грузооборота российских портов – почти 500 млн. тонн, и рост по сравнению с 2008 годом на 9%. Но все же, если говорить о проблемах, которые пришлось испытать в прошлом году – какие грузопотоки упали сильнее всего, и какие порты испытали наибольшие трудности в связи с этим падением?
– Морская отрасль – одна из немногих отраслей экономики, которая, действительно, показала положительную динамику по итогам 2009 года. Главное за счет чего стало такое возможно: прирост по нефтяным грузам – все нефтяные порты работали с плюсом, и Приморск, и Новороссийск, и ПНТ в Санкт-Петербурге, – а также пуск в эксплуатацию новых портовых мощностей.
Однако далеко не все было благополучно и в портовом секторе. В связи с падением промышленного производства и объемов внешней торговли значительно сократились грузопотоки сухих грузов – металлов, химических удобрений, леса и более всего контейнерных грузов. Для ряда морских портов, которые не смогли ничем восполнить это падение, ситуация оказалась довольно сложной. Самые большие трудности испытали порты Калининград, Архангельск, Ванино и, как ни странно, Большой порт Санкт-Петербург.
Однако в каждом конкретном случае есть свои объективные причины такого падения. Например, в Санкт-Петербурге, который переваливает в основном сухие грузы, высока доля контейнерных грузов, которые, как известно, упали больше всего – примерно на 35-40%.
Порт Ванино пострадал из-за того, что в его адрес ОАО «РЖД» много раз объявляло конвенции. Мы сейчас разбираемся с этим вопросом, но уже сегодня видна взаимосвязь с пуском нового угольного комплекса СУЭК в соседней бухте Мучке и, соответственно, с ростом объемов перевозок угля железной дорогой через Ванино-Совгаванский транспортный узел. ОАО «РЖД» сейчас реализует большие инвестиционные проекты как раз по расшивке ванинского направления, но не понятно, почему именно Ванинский порт недополучал заявленных объемов груза.
Если говорить о Калининградском порте, то приходится констатировать, что в условиях кризиса он просто проигрывает конкурентную борьбу…
Нужно отметить, что в настоящее время российская экономика, скорее всего, восстанавливается. В этом году пошел рост номенклатуры сухих грузов, которые испытали в прошлом году падение – удобрения, металлы, контейнеры. По первому месяцу этого года наблюдается прирост контейнеров на 29%, то есть тенденция падения по этому виду груза преодолена.
«МП»: В чем особенность, на Ваш взгляд, проблемы Калининградского порта, объем грузопереработки которого упал намного больше, чем в других российских портах, проблемы, о которой так много говорили и для решения которой так много предпринималось усилий на уровне правительства и Минтранса? Какова в этом смысле доля политики, в том числе тарифной на железнодорожные перевозки грузов в направлении Калининграда?
– Мы анализировали ситуацию в Калининградском порту. Почему там упал грузопоток контейнерных грузов, думаю, понятно и так – первыми в кризис страдают перевозки высокотарифных грузов, потому что промышленность снижает производство таких товаров. Но мы стали смотреть на другие грузопотоки – угля, удобрений, животно-растительных кормов (ЖРК) и т.д. И что увидели?!
Огромные объемы, например, химических удобрений идут в соседние прибалтийские порты Клайпеда и Вентспилс. Почему не в наш Калининград? Оказывается, дело не только в тарифах, которые пытались поднимать для калининградского направления страны-транзитеры Белоруссия и Литва. Дело еще и в самом Калининградском порте, в его характеристиках, в том, что на сегодня он не отвечает конкурентным условиям и проигрывает портам стран Балтии: порт мелководен и не может принимать крупные суда, а, соответственно, не может предложить больших объемов перевалки; он ограничен в площадях и не может развиваться, так как расположен в городской черте; у него почти 50-километровый подходной канал, который ограничен по глубинам, по ширине – там с трудом расходятся два судна – а также подвержен приливо-отливным явлениям; кроме того, длинный канал – это дополнительные канальные сборы, то есть порт не только по географическим, но и по экономическим параметрам проигрывает и будет проигрывать своим ближайшим конкурентам.
Не думаю, что политика имеет в этом вопросе определяющую роль. Более того, после ряда визитов Министра транспорта России Игоря Евгеньевича Левитина в Латвию, Литву, в которых мне тоже довелось участвовать, правительства этих страны поворачиваются к нам лицом и говорят: «Мы сами себе навредили тем, что с Россией не работали». Никакой выгоды, например, Литва не получила от того, что устанавливала заградительные тарифы на железнодорожные перевозки в Калининградскую область.
Поэтому нам нужно уметь договариваться, и ряд договоренностей на сегодня уже существует. Это должно стать обычной работой. Однако важно то, что, ведя переговоры, мы должны что-то предложить и грузовладельцу, который выбирает более выгодный маршрут. Как выход из создавшейся ситуации мы предлагаем вообще вынести грузовой порт из города и начать строительство нового глубоководного порта в Калининградском заливе.
Вот такова проблема Калининградского порта. И плохо, что ее не хотят понять инвесторы, которые владеют этим портом или там работают. Мы много раз с ними встречались, они спрашивают: «Что нам делать?», – но о переносе мощностей за пределы города слышать не хотят. Что ж, тогда для них остается один выход – самостоятельно инвестировать в реконструкцию канала…
«МП»: Можно ли считать, что государство, таким образом, определило дальнейшую судьбу Калининградского порта? То есть то, что в Калининградской области будет строиться новый современный порт – понятно. Но что будет с нынешним портом?
– Проект строительства нового глубоководного порта в Калининградском заливе начал разрабатываться три года назад, еще до кризиса, и контейнерная составляющая в нем была основная. Почему возникла эта идея – потому что Калининградская область находится и в самом центре Восточной Европы, и в центре Балтики, то есть новый порт как терминал, принимающий линейные контейнеровозы, здесь очень хорошо смотрится.
Например, из того же Роттердама контейнеры развозить дальше и автомобильным, и железнодорожным транспортом. А тут, от Калининграда, все рядом. То есть это как раз и есть тот хаб, о необходимости которого мы все время говорили.
Предложения о выводе Калининградского порта за пределы города рассматривала Морская коллегия при Правительстве РФ в сентябре 2009 года в Калининграде. Выбор места делали исходя из 4 вариантов размещения порта, и остановились на мысе Бальга в Калининградском заливе в районе Балтийска. Сейчас у нас имеется привязка к конкретной точке, которую подтвердил губернатор области и утвердил Минтранс России.
Для того чтобы новый порт обладал инвестиционной привлекательностью и конкурентоспособностью, наша задача сделать его доступным для крупнотоннажного флота. Такие предложения нами были подготовлены, и область их поддержала. Таким образом, на сегодня у нас имеется проект, есть обоснование инвестиций и есть инвесторы, готовые туда идти.
В то же время, если из Калининградского порта вывести все грузовые терминалы, то из него можно сделать прекрасную яхт-марину, которая может стать яхтенным центром всей Балтики! Но нынешние собственники в Калининградском порту не могут понять новых реалий.
Во время недавнего визита в Сибирский федеральный округ Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, обращаясь к крупным бизнесменам и предпринимателям, сказал примерно следующее: «Господа, хватит пользоваться тем, что вам досталось от Советского Союза – пора уже самим вкладывать в развитие инфраструктуры. Заработали денег – хватит их за границу уводить, вкладывайте в Россию!»
Эти слова, думаю, в полной мере относятся и к собственникам Калининградского порта. Заработали на порте – теперь вложитесь в освоение новой территории, а эту землю по договору потом отдадите области – вам компенсируют, потому что там тоже не бесплатно другие инвесторы будут строить яхт-марину. В любом случае Калининградский порт не может больше расширяться – там должен быть только город.
«МП»: Архангельский порт тоже сложный в плане его устройства. Получается, что недостатки инфраструктуры в период кризиса усугубили положение отдельных наших портов в части падения грузооборота, сделали сложным привлечение новых грузопотоков и проведения их диверсификации? Но каков выход для таких портов, в том числе и для Архангельского? Скорейшая реализация программ развития инфраструктуры, проектов наподобие порта-хаба в Калининграде?
– В Архангельске точно такая же ситуация, что и в Калининграде. Этот порт расположен в глубине реки Северная Двина, в 100 км от ее устья. Практически, это речной порт. Но если в Калининграде – канал, который хотя бы имеет какие-то стабильные параметры, то здесь – река, что еще хуже: и заносы, и сложности с изменением течения, и сложная ледовая обстановка…
Все три района Архангельского порта расположены в разных местах – это тоже крайне неудобно в навигационном отношении. Например, один из грузовых районов близко расположен к мосту через реку, и когда судно отходит от причалов порта, то, попадая в протоку с сильным течением, ему с большим трудом приходится выруливать, чтобы нормально пройти опоры моста – оно не успевает набрать скорость. Уже были случаи, когда суда ударялись в быки моста.
Кроме того, у Архангельского порта очень невыгодная логистика. Поэтому там тоже надо строить новый порт, и такие предложения есть. Ясно одно, что пока Архангельский порт не будет вынесен из русла реки в море – есть предложение разместить его в большой глубоководной и хорошо защищенной бухте, расположенной справа на выходе из устья Северной Двины – серьезные грузопотоки туда не пойдут.
Единственная проблема выбранной местности – туда нужно проводить коммуникации, вести автомобильные и железную дороги. Но зато это будет современный удобный порт, который без проведения дноуглубительных работ сможет принимать суда грузоподъемностью до 40 тыс. тонн.
Данный проект, предложенный инвесторами, очень хорош. В этом порту можно будет без проблем перерабатывать в больших количествах лесные грузы, на чем собственно специализируется область, уголь, а если еще и «Белкомур» подойдет, то весь Урал и Западная Сибирь с их полезными ископаемыми и продукцией металлургической промышленности значительно увеличат грузооборот порта. В крайнем случае, этот порт всегда можно будет использовать как резерв пропускных способностей.
«МП»: Александр Александрович, до сих пор мы говорили о проблемах северных портов. А каково положение портов Дальнего Востока в отношении развития инфраструктуры и наращивания мощностей?
– На Дальнем Востоке у нас портовые мощности в принципе недозагружены. Но развитие портов необходимо. Что касается порта Восточный, на перспективу порт-хаб, наверное, там нужно будет строить. Если не будем в Восточном ничего делать, значит, проиграем конкурентную борьбу. К сожалению, сейчас уже проигрываем.
Расширение мощностей Восточного порта планировалось давно, но почему-то 3-ю очередь угольного терминала инвестор до сих пор не сделал – вот опять получается, выкачиваем все из ресурсов Советского Союза. А ведь у нас сейчас этот порт практически все время стоит: у него два вагоноопрокидывателя, и если один останавливается на ремонт – всё, стоим. Но при этом 3-ю очередь упорно не делаем! Заявили – и не делаем: владелец не хочет вкладывать деньги! А надо, как минимум, еще два вагоноопрокидывателя, другие действия предпринимать, раз уголь такой востребованный стал.
Нужно строить большой порт на Сахалине для снабжения острова и вывоза оттуда грузов – там, например, большие запасы угля. Такой проект есть, но из-за смены губернатора пока отошел на второй план. Порты Углегорск и Шахтерск маленькие и плохо приспособлены как порты убежища. Гораздо удобнее построить новый порт в Ильинском – это место расположено со стороны Татарского пролива примерно посередине острова, вот там получится удобный, закрытый, большой порт.
В том районе около 10 угольных разрезов, и если подвести к Ильинскому железную дорогу, то в перспективе складывается нормальная закольцованная схема поставки угля: вертушками с разрезов – в порт, а дальше пароходами по 40 тыс. тонн вывозить в Японию, Китай и т.д.
Строительство морского порта в Ильинском входит в ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», но в связи с кризисом сроки начала строительства сдвинулись на более поздний период – на 2012-14 годы.
«МП»: Вы коснулись ФЦП «Развитие транспортной системы России». В отношении инвестиционных проектов, входящих в нее, не было ли дополнительного сокращения средств госфинансирования? Все ли намеченные проекты исполняются в полном объеме и в установленные сроки?
– Корректировка планируется только в отношении сроков реализации проектов. И, прежде всего, это касается проектов внутреннего водного транспорта, в частности, строительства второй нитки Волго-Донского водного пути и нового гидроузла Большое Козино в районе Нижнего Новгорода.
Весьма важный вопрос – строительство крупного порта-убежища на юге: в Азово-Черноморском бассейне до сих пор нет такого порта, как нет и единого мнения с властями Краснодарского края, где его строить.
В настоящее время предлагаются несколько вариантов: строительство порта в Керченском проливе за косой Тузла, то есть под ее прикрытием; можно построить порт на мысе Панагия, открытый всем ветрам – есть и такое предложение; и третий вариант –порт в озере Солёное.
По нашему мнению, это должен быть порт в Тамани в озере Солёное, потому что для строительства порта убежища нам нужно вкопаться вглубь береговой линии. И ведь здесь, на озере Солёное, еще в советские времена было запроектировано строительство порта, просто не успели построить, а теперь вот все упираются, говорят, нельзя этого делать – нужно выносить волноломы…
В отношении второго варианта, строительства порта на мысе Панагия (аналогично строящемуся грузовому порту в Сочи), должен сказать – недавно мы убедились, что такое строительство не обходится дешево и быстро, что лучше строить основательно и не экономя средств. А если мы будем опять выходить с волноломами в море при отсутствии достаточных территорий на мысе – это сразу же ограничит работу порта.
К тому же такие огороженные порты у нас есть – тот же Туапсе, Сочи, Новороссийск, и нужно понимать, что во время сильного шторма они не спасают суда, их все равно приходится выводить в открытое море. Такие порты не могут называться убежищами. А нам нужен порт-убежище, естественно, с возможностью перевалки в нем больших объемов грузов, таких как уголь, сера, удобрения и т.п.
«МП»: Возведение грузового порта в Сочи для обеспечения олимпийской стройки является приоритетным проектом. С учетом недавно произошедшего разрушения объекта в результате шторма, какие выводы сделала комиссия? В чем причины разрушений? В какие сроки и за чей счет будут завершены восстановительные и строительные работы?
– Грузовой порт в устье реки Мзымта для Олимпиады в Сочи сегодня строится, и никаких вопросов по нему не возникает. В середине марта три причала будут запущены в работу – к этому времени они будут способны принимать суда с грузами.
На сегодняшний день мы абсолютно уверены в том, что своевременно запустим портовые объекты в эксплуатацию, к тому моменту, когда они будут востребованы, то есть первая очередь порта начнет работать с 15 марта; вторая очередь будет запущена в декабре этого же года. Так что все идет в графике, так, как мы и рассчитывали.
Комиссия Росморречфлота по расследованию причин разрушения гидротехнических сооружений в Сочи, созданная моим приказом, завершила работу, рапорт по результатам работы комиссии был представлен Министру транспорта. В нем названы две основные причины разрушений строящегося грузового порта в Имеретинской долине: первое, аномальные природные явления и, второе, незавершенность конструкций строящегося порта.
На основании экспертных заключений и работы комиссии мы пришли к выводу, что продолжать строительство нужно с особым усилением и секционным способом, а не сразу вести работы на протяжении всей длины объектов, то есть надо делать частями по 3-4 секции: скажем, 80 метров сделали полностью – перешли к следующей секции, и так до конца…
Вместе с тем, мы для себя сделали и такой вывод, что при строительстве всех портов на морском побережье, в том числе на черноморском, надо вкапываться вглубь береговой территории: так построены все наши порты, которые сооружались в 50-70-х годах прошлого века. Так на Черном море были построены порты Ильичевск и Южный, на Дальнем Востоке – Восточный порт. Это и делает их надежными портами, портами-убежищами.
Если говорить о финансовой стороне проекта, то, конечно, удорожание строящегося порта произошло – только убыток там оценивается от 500 до 700 млн рублей. Но, нужно отметить, что все риски и все объекты были застрахованы и подрядчиками, и основным инвестором. Поэтому общее увеличение стоимости хоть и произойдет – оно не будет критичным. Этот вопрос решается в рамкам Олимпийского комитета и в рамках Минтранса.
«МП»: Какие особенности в решении задач развития портового комплекса в 2010 году Вы могли бы отметить? С чем они связаны? Какие задачи ставит перед собой Федеральное агентство морского и речного транспорта? И какой объем грузооборота прогнозируете в этом году?
– 2010 год рассматривается нами как посткризисный. Росморречфлот вышел с предложением и нас поддержал Минтранс, в частности, заместитель министра транспорта Виктор Александрович Олерский, чтобы на более ранний срок нам сдвинули финансирование по некоторым проектам, например, таким, как размещение ГМА им. Адмирала Макарова, запланированное на 2014 год, строительство большого дизельного ледокола для Арктики, на который пока нет острой востребованности – эти средства мы использовали бы сейчас на строительство спасательного флота.
По «Макаровке» вопрос пока рассматривается, а по ледоколу – решен: будет профинансировано строительство 10 спасательных судов, которые уже строятся, и в этом году еще большое количество судов, которые мы закладываем. В общем, за 3 следующих года мы собираемся построить 43 спасательных судна, и пока есть средства обновить весь спасательный флот.
Правительство РФ поставило нам задачу начать этот год с приоритетных проектов отрасли, разрешив сдвигать запланированные на эти проекты средства в ту или иную сторону. Исходя из этой приоритетности, главное, что нам надо сделать – выполнить те задачи и программы, которые мы сами себе наметили.
Пока все программные мероприятия выполняем. Намеченными темпами идет строительство и Морского фасада Санкт-Петербурга, и морского порта Усть-Луга; строятся и терминалы на юге – в этом году запустили еще один перегрузочный комплекс в Тамани, зерновой комплекс в Туапсе, сейчас уже планируется дальнейшее наращивание мощностей зерновых комплексов в Туапсе и Новороссийске; грузовой порт в Сочи запускаем в этом году. В 2010 году портовые мощности в целом должны вырасти примерно на 30 млн тонн.
Конечно, от выполненных мероприятий по увеличению портовых перегрузочных мощностей, от дальнейшего их наращивания в ближайшее время мы ожидаем и роста объемов грузооборота, потому что, например, пуск такого объекта, как нефтяной порт «Козьмино», не может не повлиять на общую картину прироста объемов перевалки грузов и пройти не замеченным.
Однако объемы грузооборота на текущий год мы все же прогнозируем сегодня с осторожностью – мы рассчитываем достичь грузооборота, скажем так, не меньше, чем в прошедшем году, а по возможности превысить его где-то на 30 млн тонн. Но вот уже январь показывает превышение грузооборота приблизительно на 11% по сравнению с январем прошлого года.
Нужно отметить, что, безусловно, на эти показатели повлияли недавно запущенные в эксплуатацию новые портовые мощности. Если так пойдет и дальше, то рост объемов грузооборота примет устойчивую динамику.
Морские порты №1 (2010)