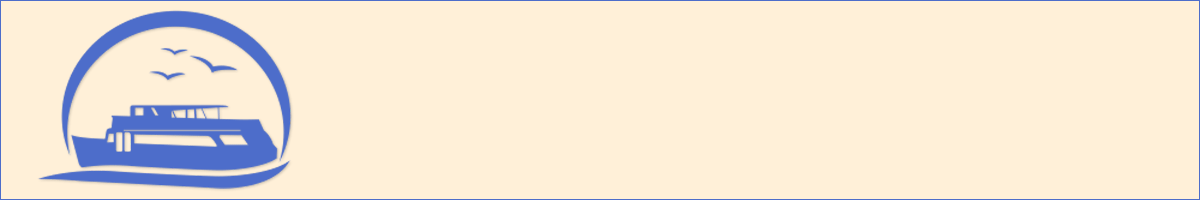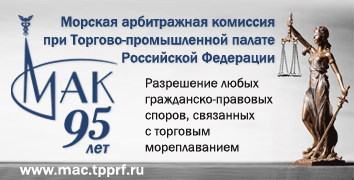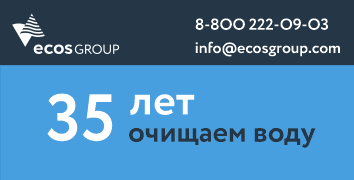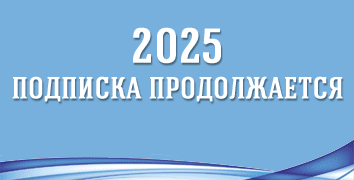Переоценка угроз
19.10.2020
Транспортная политика
Кризис военно-морского доминирования США

Фото: Vovantarakan / Shutterstock.com
Поднят военно-морской Андреевский флаг над новым отечественным фрегатом проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Насколько соответствует этот корабль ожиданиям моряков, а главное – требованиям времени?
Александр Цыганов
Корабль только принят как полноценная боевая единица флота, однако имя его принадлежит истории флота российского. Владимир Касатонов – адмирал флота, один из легендарных флотоводцев советского времени, который командывал подплавом на Балтике во время Великой Отечественной войны, был заместителем командующего Тихоокеанским флотом, командовал Балтийским, Черноморским и Северным флотами. И стал в конечном итоге первым заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом СССР.
Что это за корабль
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» – второй (и первый серийный) корабль проекта 22350. Лучше всего представить себе его можно по образу головного фрегата проекта – «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Тот прошел кругосветку, показав флаг всему миру. И вызвал при этом большую обеспокоенность западных флотов, ибо небольшой по военно-морским меркам корабль – всего 5 тыс. тонн водоизмещения – демонстрирует не только флаг, но и то, что американцы называют «проекцией силы». Недаром буквально на днях автор известного экспертного издания The National Interest вполне уважительно сравнил его с основным американским эсминцем класса «Арли Берк» именно по «тяжеловооруженности». Хоть тот в два раза больше по водоизмещению.
Конечно, в корабле главное вооружение. Фрегат оснащен новой, «оморяченной» версией 130-мм артиллерийской установкой А-192М. Главной ударной силой является универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК), который из своих 16 ячеек может выпустить по противнику целый набор превосходящих мировых конкурентов крылатых ракет: высокоточные с дальностью до 4 тыс. км 3М14 «Калибр-НК», противокорабельные сверхзвуковые 3М55 «Оникс», перспективные гиперзвуковые 3М22 «Циркон», противолодочные ракетоторпеды 91РТ2 тоже семейства «Калибр», а также зенитные ракеты. Слово «набор» тут может иметь и прямое толкование: содержимое УКСК можно варьировать в зависимости от поставленной ударной, ПЛО или ПВО, основной задачи.
С воздуха и от ПКР противника корабль прикрывает доведенный до необходимых параметров зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», морская инкарнация ЗРК С-350 «Витязь». На ближнем радиусе работает зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Палаш».
Против подводных лодок противника имеется 12 торпед противолодочного торпедного комплекса «Пакет-НК.
Ориентироваться и находить противника позволяет РЛС общего обнаружения «Фуркэ-3». Радиоэлектронное вооружение представлено РЛК «Монумент-М».
Корабль строился с применением технологий «стелс», в частности надстройка сделана из композитных материалов.
Словом, хороший корабль, но… уж больно долго строился. Заложен был аж 26 ноября 2009 года. О том, насколько рьяно графики строительства уползали вправо, можно судить по тому, что первоначально планировалось, что корабль будет спущен на воду в 2011 году, а фактически в 2014-м. Вступить в строй должен был в 2015 году, а на деле, как видим, лишь пятью годами позже.
Что мешало – и, главное, не ему одному? Знакомые с делами на флоте и в судостроительстве утверждают, что очень многие из этих сдвижек-подвижек графика диктовались доведением до ума морского зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут». Собственно, и на суше ЗРК С-350 «Витязь» шел весьма тернистым путем, но его «оморяченная» версия отличалась тем, что задерживала вхождение в строй вообще всего того комплекса, что называется военным кораблем.
Собственно, «Адмирал Касатонов», можно сказать, пошел уже по сокращенному пути: головной корабль «Адмирал Горшков» строился вообще 12,5 лет. Но и не выпустишь в море корабль с неработоспособным ЗРК…
Кроме того, нынешний именинник досыта хлебнул проблем с главной энергетической установкой – ахиллесовой пятой всего проекта 22350. Первоначально рассчитывали на двигатели с Украины в рамках советской еще системы разделения труда. Но тут как раз произошел государственный переворот в Киеве, и отношения между странами покатились в пропасть. Производство ГЭУ пришлось срочно «импортозамещать» на рыбинском НПО «Сатурн». Что, естественно, потребовало времени: ведь энергетическая установка (стоимостью в районе 2 млрд рублей) сама строится два года, а тут потребовалось создавать целую производственную линию для выпуска двигателей, стендовые мощности для полноценных испытаний, да еще и завод по изготовлению редукторов.
К сожалению, на «Адмирале Касатонове» отставание кораблестроительной программы не заканчивается. Кое-кто говорит даже, что по строительству надводного флота госпрограмма вооружения 2011-2020 годов сорвана полностью. Тех же фрегатов планировалось построить 14, на деле же флот получил всего 5 кораблей двух проектов – 11356 и 22350. А необходимо, по мнению моряков, не менее 18 кораблей только второго проекта. Ведь флот – это оружие, и как сухопутное подразделение не способно выполнять задачи корпусного или армейского уровня с десятком солдат в строю вместо тысяч, так и надводный флот в серьезном конфликте сможет эффективно выполнять задачи в составе в КУГ. Недавняя кругосветка «Адмирала Горшкова» – событие замечательное, но очевидно, что в условиях военно-морского противоборства с приличным по возможностям противником одиночное плавание закончилось бы довольно быстро.
Наконец, специалисты в военно-морской сфере изначально считали хорошие и красивые корабли проекта 22350 не слишком-то функциональными. Американцы не зря сравнивают «Адмиралов» со своим эсминцем класса «Арли Берк» – вооружением наши фактически ему не уступают. Да, но там – эсминец, и проектировщики 22350, получается, втиснули вооружение эсминца в размер фрегата; недаром у «американца» и водоизмещение в два раза больше…
Правда, и по стоимости разница в нашу пользу очень существенная: судя по данным из открытой прессы, «Арли Берк» стоит в среднем $1,7 млрд, а фрегат проекта 22350 – 18 млрд рублей.
Поздравления и вопросы…
Итак, поздравив моряков с новым кораблем и пожелав ему традиционные семь футов под килем, зададим все же не очень праздничные, но животрепещущие вопросы.
– Действительно ли это приобретение для флота – этот то ли недоэсминец, то ли перекорвет? Или это так, необходимая штопка рвущейся из-за морального и материального устаревания корабельной наличности, покамест руководство флота и Министерства обороны выработают окончательную программу того, что вообще нашему флоту нужно было бы в реальности?
На эти и другие вопросы редакция попросила ответить одного из интересных экспертов в морской области, который не раз доказывал компетентность своих суждений и прогнозов. Вот только на своей анонимности этот специалист настаивает по-прежнему. Что ж, зато так он, по собственным словам, свободнее в своих оценках.
Итак, эксперт: «Не могу сказать, что это недоэсминец. Это интересный, мощный корабль, корабль дальней морской зоны, где у нас наибольший дефицит работоспособного флота. В общем, это развитие очень удачного проекта 11356Р «Буревестник» – российских многоцелевых фрегатов с управляемым ракетным вооружением, «рабочих лошадок» нашего флота».
Он может работать в составе соединения, в составе определенной ударной корабельной группы и в индивидуальных спецмиссиях, поскольку обладает сбалансированным составом вооружения и хорошими средствами защиты.
Что же до долгостроя, то он действительно во многом связан с комплексом ПВО «Полимент-Редут», прежде всего с его радиолокационной частью. Эта проблема уходит корнями и в проблему отсутствия производства собственных отечественных элементов. Но сегодня она в основном решена, насколько я знаю. Во всяком случае, думаю, допилят ее в течение 2-3 лет до спуска крайнего корабля в серии «Адмиралов».
А так корабль очень интересный. Это наиболее мощный из надводных кораблей, который будет в распоряжении командования флота и, естественно, военно-политического руководства России. Это серьезный аргумент в мировой политике.
– Но почему тогда так много народа пожимают плечами и выражают недовольство? Что там за недостатки у нашего нового фрегата, которые вызывают такую реакцию?
– Главный недостаток – это длительные мучения с его строительством. Но откуда брать готовое решение, если на тот момент, когда он проектировался, более половины предлагавшихся к установке средств вооружения, в том числе радиолокационного и ракетного, еще не присутствовали в серийном выпуске? А треть из них вообще была только на стадии проектирования. И уже после утверждения проекта в него были внесены десяток крупных изменений и до сотни мелких. Что, в общем, противопоказано ритмичности выпуска. Конечно, это нарушение всех военно-морских канонов проектирования,
Во-вторых, на тот момент, когда корабль был заложен, верфь, где он строился, находилась в руках группы частных инвесторов. Поскольку, как мы знаем, за красивыми лозунгами и пиаром у частного собственника все равно на первом месте прибыль, то это не всегда и не слишком сочетается с государственными и оборонными интересами. И после того как в 2011 году «Северная верфь» вернулась в государственные руки, многое изменилось – и менеджмент, и логистика, и партнеры некоторые. Да и часть денег потом пришлось искать: предприятие было все в долгах. Но сегодня это позади, и ныне это одно из наиболее успешных предприятий в составе ОСК. Можно сказать, король надводного кораблестроения.
– И «Касатонов», и «Горшков», если на них поставят «Цирконы», уже сегодня будут в состоянии справиться с авианосцем?
– Когда на вооружении ВМФ появятся «Цирконы», а они уже практически оморячены, проходят испытания и скоро будут доведены, – безусловно. Если судить по характеристикам, эти ракеты американцы сбить не могут сегодня и не смогут еще лет 8-10. Не предвидится в ближайшее время у них такой возможности. По оружию, которое имеет скорость порядка 8 Махов, нет средств, которые могли бы предотвратить его попадание в такую крупную цель.
Появление у России первым в мире гиперзвукового оружия, которое уже находится на стадии постановки на вооружение, в том числе к работе по надводным целям, вообще снимает с доски авианосцы как прежнюю главную фигуру в шахматной партии большой войны. Ведь авианосец – это ферзь. Ферзь любой оборонной или ударной стратегии. И вдруг выясняется, что у противника есть некая достаточно недорогая, легко тиражируемая фигура, которая может его снять с доски абсолютно гарантированно, без возможности противодействия.
Так что американские ферзи просто остались на голой шахматной доске, где они – готовая мишень, благодарная мишень для гиперзвукового удара. Думаю, американцы действительно в недоумении.
– И все-таки два корабля, пусть современных и с хорошим вооружением, признаем, – ничто для решения стратегических задач. Сколько в идеале нам таких нужно, чтобы они на морях реальную силу представляли?
– Дело не только в кораблях, гиперзвуковое оружие в виде комплекса Х-47М «Кинжал», скорее всего, способное работать и по наземным, и по надводным целям, уже стоит на боевом дежурстве на наших воздушных носителях. Но все-таки главная интрига в том, что мир сейчас переживает некий переломный момент, связанный с развалом геоцентричной модели военно-экономического доминирования США. Идет смена стратегических эпох, которая предполагает и смену целеполагания в том числе в военно-морских концепциях и средствах их осуществления. И если мы хотим сегодня решить те стратегические вопросы, заложить те решения, которые должны будут сработать через 10-20 лет, то именно сейчас очень высока вероятность крупной ошибки. С кем мы должны будем бороться, против чего, что должны будем охранять, защищать? Какие будут угрозы, с которыми придется сталкиваться и противодействовать? Мы пока почти ничего об этом не знаем, перемены только начинаются.
Зато видим конвульсии американской военно-морской мысли – а она на сегодня наиболее обеспечена всеми конструкторскими, инженерными, материальными ресурсами. И эту военно-морскую идею сами американские спецы обвиняют в жесточайшем кризисе смыслов и целей, в отсутствии каких-то перспектив. Все наиболее инновационные программы американских военно-морских сил на нынешний день фактически доказали свою несостоятельность.
О явном кризисе авианосной концепции уже сказано, король оказался под жесточайшим шахом. Инновационный эсминец «Зумвалт», помимо того что признан технологически неспособным к решению задач, ради которых создавался, – еще и выяснилось, что неизвестно, против кого строился столь дико дорогой корабль. Ведь он приближается по цене к 60% стоимости авианосца: $12,7 млрд стоит «Теодор Рузвельт» и под 8 один «Зумвалт». Притом что ни одного из классов обещанного перспективного оружия, как плавучая футуристическая платформа для которых он, собственно, и был создан, так не появилось. А если оставлять нынешний набор классического оружия, то по ударной мощи, живучести, не говоря уже о стоимости владения и ремонтопригодности, корабль как минимум вдвое уступает в пять раз более дешевому «Арли Берку».
То же самое с программой ЛКС, литорального боевого корабля. Аж в двух концептах развивающийся проект вдруг признан абсолютно не нужным и фактически закрыт. Он будет еще достраиваться, но теперь там, в Америке, действующие адмиралы в Пентагоне и отставники в Конгрессе явно думают лишь о том, как без лишнего шума списать проект, чтобы обошлось без скандала. Единственная задача военно-морского начальства сегодня – как потихонечку закрыть эту программу и не «присесть» при этом.
– В итоге, что имеем? Период недоумения, который существует сегодня в военно-морском строительстве, налагает и на нас определенные ограничения. Если сейчас выстроим перспективную структуру ВМФ России, которая, как в свое время советская, в качестве главной функции будет нацелена на противодействие авианосным ударным группам ВМС США, то непонятно, пройдет ли это решение экзамен истории через 20 лет. По тому, как все идет, нельзя исключить, что американцы и сами справятся с уничтожением своей военно-морской мощи, и уж точно она не будет способна, как прежде своими «Томагавками», морпехами и авианосцами, «нести демократию» в страны, не признающие контроль со стороны Вашингтона.
Пока США успешно движутся к банкротству как материальному, так и моральному: вкладывают бешеные деньги и через 5-10 лет закрывают эти программы с позором и с унижением всего и вся. Это не просто материальные потери, это признак беспомощности и бессмысленности. Это признак падения военно-морской культуры. Что для американцев, конечно, обидно – это мощная военно-морская держава с интересной, своеобразной, полезной для всех военно-морских игроков культурой и потенциалом.
Американские кризисы – нам польза
– Вот и нам бросаться быстро что-то строить, наверное, нет смысла. Да, надо идти дальше, надо развивать классы корветов и фрегатов, а вот для эсминцев, возможно, еще рановато. Полагаю, даже более крупный корабль, чем, скажем, фрегат 22350М (7,5-8 тыс. тонн), не факт, что будет нужен уже завтра. Флот пока еще сам не знает конфигурацию угрозы, с которой столкнется к тому моменту, когда их строительство может быть завершено, и они смогут стать реальной силой. Поэтому надо смотреть, а пока отрабатывать на мышках, на таких мощных красивых мышках, как фрегаты проектов 22350 и 22350М. Отрабатывать все те новинки, которые с начала нулевых сегодня стали абсолютно нормальным и приемлемым решением. В том числе и по элементной базе, и по составу вооружения, и по возможностям БИУС, сетецентрике и взаимодействию с беспилотными, автономными и роботизированными системами и средствами. Американский кризис в этом плане нам исключительно полезен и поучителен. Скажем, их история с мультимишн-задачами, модульными проектами, модульной конструкцией кораблей. Они возлагали на эту концепцию большие надежды. Позднее и мы – уже под их влиянием. У нас тоже «модульность» замелькала где-то со второй половины нулевых годов.
Выяснилось, что даже в тепличных условиях, где-то там во Флориде или на Гавайях, хранение нескольких модулей обходится в бешеные деньги и все равно не позволяет обеспечивать их минимальную оперативную готовность, ради чего все и затевалось. А как у нас работала бы эта модульность – с нашим климатом, не допускающим «зимовки» в естественных условиях громоздких модулей, насыщенных микроэлектроникой, не любящими температурных перепадов техническими жидкостями и смазками, нежными уплотнениями и проч., дефицитом квалифицированных свободных рук и голов? Абсолютно тупиковая, считаю, история.
Уточню, конечно, что речь идет о «крупноблочных» модулях, принципиально меняющих функциональную архитектуру корабля. Использование контейниризованного «одноразового» ударного комплекса типа Club-C или также втиснутых в 40-футовый контейнер комплексов ПВО различной дальности, локальных модулей другого предназначения – неизбежно и наверняка станет обычной практикой, особенно на кораблях с небольшим водоизмещением и специализированных судах.
Отдельное направление, где особенно остро ощущается кризис традиционной американской концепции военно-морского доминирования, – Арктика. Руководство США неспроста ударилось в рассуждения о начале большой программы собственного ледоколостроения, по традиции почти сразу же признав, что в нынешних реалиях программа будет не американской, а, скорее, европейской. За проектом придется обращаться к финнам, да и строить частично тоже в Европе. После полувекового игнорирования темы задач военно-морского контроля за арктической акваторией в зоне Западного полушария, обусловленного нулевой транспортной ценностью Северо-Западного прохода и законодательной заморозкой добычи углеводородов на шельфе и материковой части Аляски, США обнаружили свое ставшее уже фатальным отставание в потенциале контроля за «Северо-Восточным проходом» – Северным морским путем. Севморпуть вместе с гигантскими шельфовыми пространствами стал зоной стратегического доминирования России и трассой, потенциально являющейся для КНР жизненно важной альтернативной коммуникацией с крупнейшими экспортными рынками на случай блокады американцами традиционных морских коммуникаций Китая.
Сложившуюся в Арктике ситуацию, а также тонкую взаимосвязь экономических и геополитических предпосылок, лежащих в основе любой военно-морской стратегии, достаточно точно описал председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1-го ранга Михаил Ненашев.
Он недавно отметил в СМИ, что ресурсы Америки в принципе позволяют ей менее чем за 10 лет построить несколько ледоколов, но и для этого им потребуется вступать в кооперацию со странами, такими как Финляндия, сохранившими компетенции в проектировании и строительстве ледоколов. И в этом случае вызовы, которые встают перед Вашингтоном, будут колоссальными.
Однако даже самые экстраординарные усилия не помогут США оспорить доминирование России в Северном Ледовитом океане, уверен он.
Вооруженные ледоколы проектов 21180 и 21180м – это только заказ ВМФ. Патрульные корабли ледового класса проекта 23550 шифр «Арктика» строятся как для ВМФ, так и под шифром «Ермак» для Береговой охраны Погранслужбы ФСБ России. У морских пограничников служит также флотилия сторожевых кораблей ледового класса проектов 22100 и 22120.
Прибавить к этому обновляющийся уникальный потенциал Росатомфлота, включая группировку из минимум пяти новейших атомных ледоколов проекта 22000 семейства «Арктика» и пр. 10510. Сверхмощный «Лидер» будет способен осуществлять плавание не только по СМП, но при необходимости и по кроссполярным маршрутам в любое время года, а также флот Минтранса РФ из 38 ледоколов ФГУП «Росморпорт», полутора десятка многофункциональных ледовых спасателей Морспасслужбы, 15 арктических газовозов тяжелого ледового класса, ледовые танкеры ВМФ и «Совкомфлота».
На фоне арктического могущества нашей страны у судостроительного сектора США, потенциал которого основательно подорван протекционистским законом Джонса и деградирует уже несколько десятилетий, нет проектных, инженерных школ и опыта строительства ледоколов.
Да и простой транспортный флот они строят дороже и заметно хуже по качеству, чем лидеры мирового судостроения из азиатских стран АТР. Кроме того, американцам еще нужно подготовить кадры, которые могли бы безопасно управлять ледоколами в суровой арктической акватории. В России эта школа нарабатывалась в течение многих десятилетий.
Стоит отметить, что в отличие от США для России ледоколы в первую очередь это не инструмент военно-морской политики. Для нас это вопрос развития северных территорий, освоения арктического шельфа с прицелом на круглогодичную эксплуатацию Севморпути в интересах не только отечественного, но и мирового судоходства.
И за этим курсом Москвы стоят не электоральные дрязги или политические понты, а серьезная глобальная стратегия с опорой на традиционные конкурентные преимущества России в изучении Арктики и богатейший национальный опыт полярного судоходства.
Военно-морское строительство в конечном счете производная стратегии экономического развития страны, а попытки поменять местами части этой формулы – еще один признак заката однополярного мироустройства последних трех десятилетий.
Так что кризис американского проекта для нас еще и очень полезен – чтобы мы перестали обезьянничать и шли дальше своим путем, с опорой на бьющуюся отечественную энергичную мысль.
Заложенные на возрожденной верфи «Залив» в Керчи два универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23900 – четко вписываются в эту логику создания эскиза будущего океанского флота России и переноса принятия окончательного решения по структуре и целевым задачам ВМФ РФ на период в районе границы 20х – 30-х годов. Владимир Путин в общении с рабочими «Залива» сказал, что Россия планирует продолжать строительство универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев, но решение об этом будет приниматься на основании практики их применения. Таким образом, к середине 20-х корабли войдут в строй. Два-три года практической эксплуатации уйдут на выявление достоинств и недостатков проекта, который неизбежно станет базой создания современных экспедиционных сил ВМФ РФ.
Можно предположить, что к этому рубежу в Мировом океане будут сформированы основные угрозы и облик противодействующих сил, а в мире сложатся новые экономические реалии, влияющие на конфигурацию военно-морской доктрины России середины ХХ1 века.
Морские вести России №10 (2020)