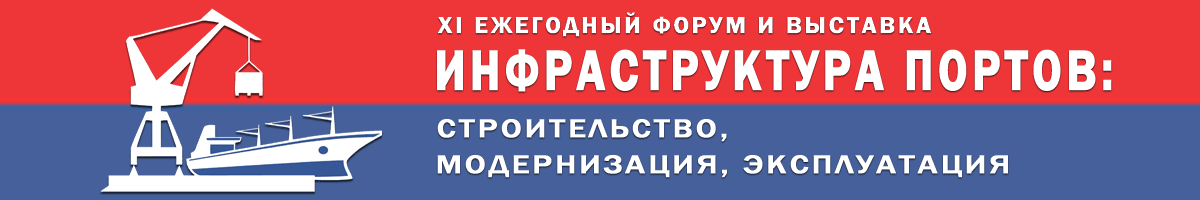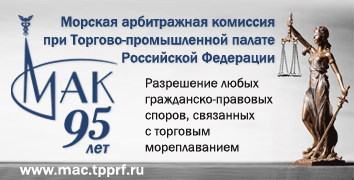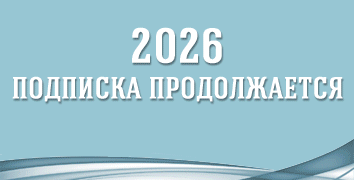Вахтенный уснул от усталости
22.04.2018
Морской транспорт
Разрешение в МАК спора касательно рыбного промысла: классификация и мореходность судна
Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МАК), созданная в 1930 году, является сегодня одним из старейших морских арбитражных центров в нашей стране и в мире.
Дмитрий Давыденко, к.ю.н., ответственный секретарь и арбитр МАК при ТПП РФ
В МАК традиционно рассматриваются споры из рыболовецких операций, договоров перевозки грузов, фрахтования судов, а также споры в связи со спасением судов и грузов на море. Наряду с этим предметом разбирательства в МАК могут быть споры, вытекающие из брокерских и агентских соглашений, ремонта судов, судового менеджмента, осуществления промыслов и многообразных иных отношений, которые возникают в сфере торгового мореплавания, а также плавания по внутренним водным путям.
Дело МАК
В МАК рассматриваются дела самых различных категорий с участием рыбопромысловых организаций, включая споры в связи со спасанием, фрахтованием, страхованием, буксировкой, ремонтом судов, тайм-чартерами. В качестве примера подробно остановлюсь на одном деле 2015 года, где ключевым стал вопрос о классификации судна в качестве рыбопромыслового. К составу экипажа, квалификации капитана и в целом мореходности такого рода судов применяются более высокие требования.
Обстоятельства дела вкратце таковы. Между банком и организацией-судовладельцем был заключен договор о предоставлении кредита для приобретения судна – транспортного рефрижератора. Судовладелец приобрел судно и застраховал его у страховой компании.
Затем банк, судовладелец и ответчик подписали дополнительные соглашения к договору страхования, которым банк был назначен выгодоприобретателем по этому договору. В случае утраты или гибели застрахованного средства водного транспорта страховщик обязался выплатить страховое возмещение выгодоприобретателю в части неисполненных обязательств страхователя (заемщика) перед выгодоприобретателем.
Судно следовало из порта Мурманск в район острова Медвежий (Норвежское море) для приема рыбопродукции с промысловых судов. Ранним утром судно на полном ходу выскочило на берег острова, поскольку вахтенный уснул от усталости.
Судовладелец принял решение об экономической нецелесообразности проведения мероприятий по снятию судна с мели и устранению имеющихся повреждений судна. Он обратился в страховую компанию за выплатой страхового возмещения. Однако компания выплатить судовладельцу страховое возмещение отказалась и заявила, что судно относилось к судам рыбопромыслового флота и судовладелец нарушил требования к безопасности эксплуатации и не обеспечил мореходность такого судна. Судовладелец с этой позицией ответчика не согласился.
Поскольку судовладелец-заемщик не исполнил большую часть своих обязательств по кредитным договорам, в МАК с иском о взыскании страхового возмещения обратился банк как выгодоприобретатель. Судовладелец участвовал в деле в качестве третьего лица.
Основным предметом спора стали требования к укомплектованию судна экипажем, которыми должна определяться мореходность этого судна при его выходе в рейс из порта Мурманск.
Арбитры установили следующее. Судовладельцем и истцом доказано и ответчиком не оспаривалось, что судну в соответствии с Правилами Регистра был присвоен тип «рефрижераторное». Класс, присвоенный Регистром судну, и определение типа судна при этом как «рефрижераторного» предусматривали его использование, согласно пояснениям истца, «для перевозки или сохранения охлажденных грузов или продуктов лова». Таким образом, судно могло использоваться как рефрижераторное судно для перевозки грузов между портами или другими пунктами на суше, оборудованными для погрузки и выгрузки груза, либо как рефрижераторное судно для перевозки и сохранения «продуктов лова». По мнению арбитров, это означало, что судно могло по своему типу и классу использоваться для приема продуктов лова с рыболовных судов в местах их добычи и последующего сохранения и транспортировки.
Судно было отправлено в рейс для использования в качестве приемотранспортного судна, то есть судна рыбопромыслового флота. Кроме того, оно эксплуатировалось судовладельцем как приемотранспортное судно и до данного рейса. В частности, из показаний старшего помощника капитана следовало, что в предшествующем рейсе это судно доставляло мороженую рыбу, принятую на промысле в районе Фарерских островов. Ответчик указывал на то, что судно и ранее занималось приемкой рыбы с промысловых судов и доставкой ее в порты Норвегии. Эти утверждения ни судовладельцем, ни истцом не оспаривались.
Независимо от того, в каком судовом реестре было зарегистрировано судно в то время, когда оно эксплуатировалось в качестве приемотранспортного судна, его судовладелец и экипаж должны были соблюдать установленные для таких судов правила, обеспечивающие его мореходность, поскольку такие правила учитывают в том числе и назначение, по которому в действительности используется судно.
Мореходность судна
Арбитры сочли, что для разрешения возникшего в настоящем деле спора между истцом и судовладельцем с одной стороны и страховщиком – с другой решающее значение имеет верное понимание и толкование положений закона – Кодекса торгового мореплавания России – о понятии мореходности судна, то есть тех требований, которые согласно закону должны быть выполнены, чтобы судно могло считаться мореходным.
В соответствии со статьей 266 Кодекса страховщик при страховании судна «не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие отправки судна в немореходном состоянии, если только немореходное состояние судна не было вызвано скрытыми недостатками судна...». При этом закон не определяет, какое состояние судна следует считать «немореходным».
В соответствии с пунктом 1 статьи 124 и статьей 266 Кодекса судовладелец «обязан заблаговременно, до начала рейса привести судно в мореходное состояние», в том числе «укомплектовать его экипажем». В чем именно заключается требование закона «укомплектовать» судно экипажем, установлено в пункте 1 статьи 53 Кодекса, который в редакции, действовавшей на дату выхода судна в рейс, гласил: «Каждое судно должно иметь на борту экипаж, члены которого имеют надлежащую квалификацию и состав которого достаточен по численности для:
– обеспечения безопасного плавания судна, защиты морской среды;
– выполнения требований к соблюдению рабочего времени на борту судна;
– недопущения перегрузки членов экипажа судна работой».
Экипаж
Абзац второй пункта 2 статьи 53 КТМ РФ в той же редакции устанавливал, что судну капитаном порта (морского или рыбного) выдается «свидетельство о минимальном составе экипажа судна, обеспечивающего безопасность...». Сам же минимальный состав экипажа судна определяется соответствующим федеральным органом исполнительной власти «в зависимости от типа и назначения судна, района плавания...».
По мнению арбитров, из приведенных норм закона было достаточно очевидно, что минимальный состав экипажа судна определяется прежде всего с целью обеспечить «безопасность плавания судна» исходя из его технических характеристик и района плавания. Но при его определении не могут быть учтены все особенности эксплуатации конкретного судна в конкретном рейсе. Поэтому минимальный состав экипажа не обязательно обеспечивает выполнение требований к соблюдению рабочего времени на борту судна и недопущение перегрузки членов экипажа судна работой, в то время как выполнение этих требований всегда обязательно для того, чтобы судно было «укомплектовано экипажем» надлежащим образом и, следовательно, могло считаться мореходным.
Именно по этой причине закон содержит требование о «минимальном составе экипажа судна, обеспечивающего безопасность». Особые условия конкретных рейсов, известные судовладельцу и требующие от экипажа выполнения обязанностей и работ, выходящих за пределы тех, на которые рассчитан минимальный состав экипажа судна, требуют соответствующего увеличения состава экипажа.
Арбитры отметили, что даже из материалов, представленных участвующими в настоящем деле лицами, видно, что эксплуатация судна в качестве приемотранспортного в местах рыболовного промысла существенно усложняет работу его экипажа и увеличивает ее объем.
Бульшая численность минимального состава экипажа судна нормативно установлена для судов рыбопромыслового флота, в том числе для приемотранспортных судов, с учетом сложности и опасности эксплуатации таких судов. Поэтому при отправлении названного судна в рейс и определении состава его экипажа судовладельцу надлежало ориентироваться на действовавшие в то время положения приказа Госкомрыболовства № 148. Это означает, что в составе экипажа судна должно было быть не менее 16 человек. Если же технические характеристики судна не позволяли судовладельцу обеспечить такой состав экипажа, то по указанному назначению судно эксплуатировать было нельзя.
Эксплуатация судна в качестве приемотранспортного судна в местах рыболовного промысла, по мнению арбитров, требовала от судовладельца укомплектования судна экипажем в соответствии именно с таким назначением судна, а не просто следования документу о минимальном составе экипажа. Этот документ был выдан капитаном Мурманского морского торгового порта, в котором рефрижераторное судно было внесено в реестр, предназначенный для регистрации морских судов, которые используются для перевозок грузов. Очевидно, что и названный документ был выдан исходя из такого назначения судна, что ни судовладельцем, ни истцом по настоящему делу опровергнуто не было.
С учетом изложенного арбитры нашли, что судно было отправлено судовладель-
цем в рейс, не будучи укомплектовано экипажем надлежащим образом, то есть немореходным.
Квалификация капитана судна и немореходность судна
Арбитры отметили, что требование к мореходности судна в статье 266 КТМ РФ и в пункте 1 статьи 124 КТМ РФ в отношении «укомплектованности его экипажем» означает в соответствии с пунктом 1 статьи 53 КТМ РФ также необходимость «иметь на борту экипаж, члены которого имеют надлежащую квалификацию… для обеспечения безопасности плавания и защиты морской среды». Это прежде всего относится к капитану судна.
В соответствии с требованиями по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращения загрязнения, установленными Международным кодексом по управлению безопасностью (МКУБ), главой IX Конвенции СОЛАС-74 «компания (судовладелец) должна обеспечить, чтобы капитан имел надлежащую квалификацию для управления судном».
Арбитры констатировали, что на судне применялась система управления безопасностью (СУБ). По признанию самого капитана, он никогда не работал на судах с СУБ и не имел практического опыта управления такими судами, перед выходом в рейс формально ознакомился с СУБ судовладельца. По мнению арбитров, капитан судна, имеющий в соответствии с установленными требованиями диплом капитана, тем не менее на момент выхода судна в рейс не имел надлежащей квалификации для управления таким судном.
Арбитры нашли, что судовладелец, которому должны были быть известны требования по управлению безопасной эксплуатацией судов, полностью проигнорировал эти требования. По их мнению, он допустил грубую неосторожность, назначив капитана на судно нового для него типа и сразу же отправив в рейс без учета его подготовки к управлению таким судном. Допустив это, судовладелец не проявил должной заботливости о мореходности судна при его отправке в рейс.
Общий вывод
Арбитры пришли к выводу, что аварийный случай с судном в результате кораблекрушения произошел по причине немореходности судна и не может быть квалифицирован как страховой случай и что ответчик имел право отказать судовладельцу в выплате страхового возмещения в связи с конструктивной гибелью судна.
Отсутствие у страхователя права на получение от ответчика страхового возмещения в связи с гибелью судна лишило банк (как выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения.
Как видно из данного примера, в МАК квалифицированно рассматриваются споры по различным вопросам, актуальным в том числе для рыбопромыслового флота.
Морские вести России №2 (2018)