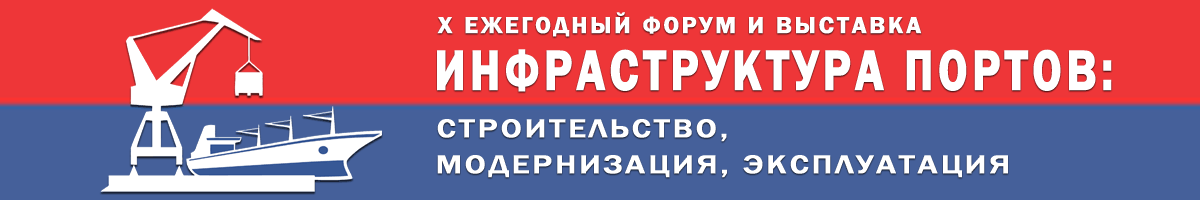Владимир Медников: «Я выбрал Россию и «Совкомфлот»
16.09.2014
Есть такие специалисты, которых называют не иначе как «живая легенда». Владимир Медников – один из них. Юрист-международник по специальности, он всю жизнь работал в области морского права, укрепляя позиции нашей великой морской державы. Сначала в Минморфлоте, затем в дочерней компании ВВО «Совфрахт» в Лондоне, Англо-советском пароходном обществе, в известном адвокатском бюро «Юринфлот», а последние девять лет в «Совкомфлоте» в ранге заместителя генерального директора. Недавно Медникова указом президента России наградили орденом Дружбы. Мы беседуем с ним о выборе жизненного пути, о переменах в отрасли, о дружбе народов и отдельно взятых людей.
В марте министр транспорта России Максим Соколов вручил орден Дружбы Владимиру Медникову, заместителю генерального директора – административному директору ОАО «Совкомфлот». Вскоре после этого коллектив проводил Владимира Александровича на заслуженный отдых, при этом его знания и уникальный опыт будут по-прежнему служить СКФ: Медников получил статус советника генерального директора.
«МФ»: Как сложилось, что вы посвятили себя именно морскому праву?
– Как ни странно, я буквально вырос на судах, только не морских. Мой отец был капитаном речного судна. Известно, что моряк и речник как братья – старший и младший. Речники обижаются, считая свою работу более сложной: все время в узкостях, поэтому особые требования к навыкам судовождения. Азы отцовского ремесла я постиг довольно рано. В то время разрешалось брать семьи с собой в рейс. Мама, мой брат и я подолгу жили на пароходе. Под руководством отца я учился управлять судном. Конечно, это было нарушением всех мыслимых требований, но у меня получалось. Была многолетняя учеба в клубе юных моряков, речников и полярников. Практику проходили на списанных из ВМФ больших и малых морских охотниках. Так и возникла тяга к этой профессии.
«МФ»: Прямая дорога в профильный вуз…
– Да, с приятелем чуть не поступил в «Макаровку», но судьба распорядилась иначе. Гуманитарные науки мне всегда давались легко, и я собирался после армии поступать на исторический факультет МГУ. Как человек с активной жизненной позицией еще в армии вступил в партию. Однажды нас собрали и приказали всем, кто не имеет высшего образования, явиться на отбор– практически в принудительном порядке отправили на обучение в Университет дружбы народов. Это был необычный вуз, его учредителями были общественные организации, и все его программы были построены по западному образцу, как в Сорбонне или Кембридже. Большая часть студентов была из-за рубежа, и их нужно было готовить по международным стандартам. С большим удовольствием вспоминаю годы обучения. В то время я понял, что за границей живут такие же люди. Мы делили одно общежитие, ездили в стройотряды, вместе ходили на демонстрации и субботники, устраивали вечера отдыха. Этот опыт придал мне уверенности на начальных этапах работы в международном бизнесе.
Вопросами морского права я стал интересоваться еще во время учебы, писал курсовые работы и диплом по этой тематике. Окончил вуз с отличием и рассчитывал, что попаду на работу в «Совфрахт», но меня не взяли. Не было мест. Зато взяли в Минморфлот. Сейчас я благодарен судьбе, что так случилось, потому что моим начальником стал Георгий Георгиевич Иванов, доктор наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР, умнейший и способнейший человек, который написал сотни трудов по морскому праву. Мне посчастливилось у него многому научиться. Среди моих наставников были и выдающиеся юристы, доктора юридических наук, профессора, такие как Александр Львович Маковский, Александр Григорьевич Калпин и Анатолий Лазаревич Колодкин, в честь которого «Совкомфлот» недавно назвал одно из своих судов. Я стал его преемником на посту президента Ассоциации международного морского права.
«МФ»: Какой участок работы вам отвели в министерстве?
– В то время мне поручили заниматься осуществлением монополии внешней торговли на морском транспорте в части ведения заграндел. Работа велась централизованно, из Москвы. Я курировал деятельность пароходств и «Совфрахта» в этой части. Согласование любых важных вопросов проходило с юридическим отделом министерства, и для меня это означало погружение во все дела. Мое рабочее место фактически находилось в договорно-правовой конторе «Совфрахта». Тогда я еще не знал, что мне предстоит полжизни посвятить этой компании.
В Минморфлоте я также принимал участие в подготовке международных конвенций, в том числе в юридическом комитете Международной морской организации (ИМО). Участвовал в работе дипломатических конференций, где принимаются международные конвенции. Это дало колоссальный опыт и ощущение причастности к историческим процессам. Сложно представить, что такая работа может доставлять большое удовольствие, но мне нравилось.
Конвенция – это всегда компромисс. Я, в частности, отвечал за связи советской делегации с делегациями ведущих морских стран: американской, английской, японской. Руководство посылало меня согласовывать компромиссы с такими же представителями других сторон. Альянсы складывались и распадались очень быстро, нужно было успеть договориться. В ИMO у нас никогда не было политических осложнений, потому что интересы просто делились на судовладельческие и грузовладельческие. В ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию. – прим. ред.) все было основано на политических установках: соцлагерь, каплагерь и развивающиеся страны. Говорили одни и те же слова по любой конвенции, и эти документы, как правило, были менее успешными, чем рожденные в ИМО.
Интерес к этой работе привел к тому, что в возрасте 30 лет я был избран главой редакционного комитета на дипломатической конференции, который сводил воедино все поступавшие поправки. Наверное, западные делегации, голосовавшие за меня, думали, что по молодости я не смогу тягаться с опытными «акулами», работавшими в этом комитете. Их надежды не оправдались. Наши результаты вдохновляли и давали стимул для дальнейшего развития. До сих пор я горжусь тем, что несколько строк в Конвенции ООН по морскому праву написаны моей рукой.
(Есть вклад В.А. Медникова и в Конвенции об условиях регистрации судов, и в развитии Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года, и в Международной конвенции о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года. При этом наш собеседник участвовал в регулировании морской отрасли и на внутригосударственном уровне. Приходилось много работать с другими министерствами и государственными комитетами, с судами, порой даже занимались рассмотрением жалоб. Например, однажды поступил запрос из Генпрокуратуры: расценивать ли как спекуляцию действия моряка, который сдал в комиссионный магазин три тысячи дешевых пластиковых женских сережек. Удалось отстоять мнение, что это деяние не является уголовно наказуемым, моряк отделался «легким испугом».– прим. ред.)
«МФ»: Расскажите о периоде работы в Великобритании.
– С 1927 года у Советского Союза там была компания под названием «Англо-советское пароходное общество», одно из подразделений «Совфрахта», где мне предложили возглавить юридический отдел. Работа была мне знакома. К тому времени я обучался в аспирантуре Союзморниипроекта, и передо мной встал вопрос: идти по научной части или оставаться практикующим юристом. Те знания, которыя я получил в Лондоне, можно сравнить с обучением в нескольких аспирантурах. Началась перестройка – один из самых интересных отрезков моей жизни, и на науку просто не осталось времени.
В Лондоне был хороший коллектив. В то время нас, советских людей, воспринимали как представителей нового, очень нами интересовались. В Великобритании понимали, что теперь, после окончания холодной войны, был шанс «подружиться». Приглашения на различные конференции и приемы сыпались как из рога изобилия, на многие приходилось отвечать отказом. Появился колоссальный круг знакомств, понимание многих процессов «изнутри», ведь Лондон всегда был морской столицей мира.
В то время мы занимались и линейным бизнесом (что с организационной точки зрения гораздо более сложное дело, чем транспортировка наливных грузов), и круизным бизнесом – контролировали до 14% британского круизного рынка. Работали очень успешно. Мы сумели обойти многих именитых конкурентов-англичан. На нас стали поступать жалобы в парламент с целью придать делу политическую окраску. Пришлось доказывать британским парламентариям, что мы работаем честно.
Хоть мы и работали в более низком ценовом сегменте, но у нас все было организовано не хуже, а может быть, даже и лучше. Особенно всех привлекало культурное наполнение круизов на советских судах. Мы приглашали наших прославленных оперных певцов, которых наши пассажиры не имели возможности услышать в Ковент-Гардене, а художественная самодеятельность была настоящей экзотикой.
Перестройка была интересна тем, что мы и сами меняли отношение к себе. Занимались порой самыми неожиданными вещами – например, авиационными перевозками. Помню, что только в течение одного года на моем участке был в работе 91 проект. Например, поставка экипажей судов, чего ранее никто не делал. А я был лишь одним из директоров общества.
«МФ»: Что помогало справляться?
– Команда была сплоченная и молодая, мы чувствовали за спиной силу могучей страны. Если нам не удавалось от порта добиться приемлемых условий, мы с помощью «Совфрахта» четко и без нарушения линейных расписаний «перекидывали» пароходы на другие порты, где нас всегда ждали. Это была мощная система, и очень жаль, что мы ее потеряли.
Когда пришло время возвращаться, я мог остаться в Англии, но выбрал Россию. Здесь мы создали совместное предприятие с клубами взаимного страхования West of England и UK P&I Club. В сложные 90-е годы мы налаживали систему корреспондентов, и это тянет на отдельное интервью.
Затем была работа в старейшей юридической фирме России «Юринфлот», которая была создана вместе с «Совфрахтом» для защиты интересов отечественного морского флота за рубежом. В статусе адвоката я много работал с российскими судовладельцами. Часто мы занимались реструктуризацией или рефинансированием их займов в иностранных банках, то есть разрабатывали схемы, по которым российские компании получали деньги. Плотно работали с Новороссийским морским пароходством. А однажды в качестве адвоката мне предложили защищать интересы Сахалинского морского пароходства в споре с Европейским банком реконструкции и развития. Когда ознакомился с материалами дела, пришел в ужас и сказал пароходству, что это дело невозможно выиграть. Я оказался не прав. Тогда я еще не понимал, что означает воля к жизни. Пришлось многому научиться у «пароходчиков». Три тысячи человек не остались на улице...
А потом перед судоходными компаниями возникли новые проблемы: финансирование деятельности, налоги, таможня, немощь и произвол госструктрур, корпоративное строительство и управление, и их тоже поручали нам, хоть мы и были морскими юристами. Не хотелось переквалифицироваться, но начальники пароходств говорили: «Мы доверяем вам. Мы учимся, и вы учитесь».
Время было непростое, если не сказать «страшное». Собственность делили разными методами, и не всегда праведными. На сотрудников фирмы оказывали давление, чтобы поступились интересами тех, кого защищали. Хорошо, что тогда все остались в живых. Мелкие телесные повреждения не считаются.
Приходилось помогать и органам власти возвращать госсобственность. В условиях неполного и постоянно меняющегося правового регулирования было необходимо непрерывно учиться, принимать неочевидные решения. Зато было интересно. Работали с крупными российскими компаниями (ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром и др.), но большая часть клиентов – зарубежные. Потом последовало предложение перейти на работу в «Совкомфлот». Для меня это решение тоже было неочевидным. На тот момент я возглавлял юридическую фирму, был финансово независим, достиг вершин карьеры, писал книги и научные статьи. Но я знал, что такое «Совкомфлот» (имел отношение к его созданию, работал на него и против), и понимал, что здесь масштаб и перспективы. Так оно и оказалось.
«МФ»: Что для вас «Совкомфлот» сегодня?
– Это часть былого могущества Советского Союза. Когда-то я работал в великой корпорации под названием «Морфлот СССР», и это давало нам уверенность в собственных силах и большие возможности. К сожалению, из 16 пароходств, с которыми я работал, в хорошей форме остался только «Совкомфлот». Мне приятно осознавать, что в тяжелейших рыночных условиях он продолжал развиваться. Это заслуга нескольких поколений менеджеров. Помню 2005 год, когда мы на заседании правления принимали решение войти в сегмент газовых перевозок. Все понимали, что, если допустим ошибку, это может стоить компании жизни. Думал, что уже давно перестал бояться чего-либо, но тогда было не по себе. Хорошо, что мы не промахнулись. Непросто далось и решение об уходе из отдельных сегментов, таких как контейнерные или пассажирские перевозки. Для кого-то это сегменты, а для меня – часть жизни. Специализация в области обслуживания шельфовых проектов тоже была правильным шагом. «Совкомфлот» – компания государственного масштаба.
В 2005-м мы смотрели на конкурентов с легкой завистью, а сегодня СКФ в числе ведущих судоходных компаний мира. Мало кто может делать то, что сегодня можем мы, и это хорошо и плохо. России бы не помешали еще один-два «Совкомфлота». Конкуренция держит в форме, учит новому. Но пока мы одни, и на нас большая ответственность.
«МФ»: Вы всю жизнь были связаны с судоходной отраслью. Как она изменилась за последние десятилетия?
– Это живой организм, она постоянно в движении. Сейчас традиционные западные центры развития судоходства сдают свои позиции. То, что мы видим в Европе, – остатки былой роскоши. Отрасль смещается на восток – туда, где рабочая сила более дешевая. Морская профессия теряет престиж. Многие помнят, как было почетно в советские годы работать на судах загранплавания. В морских вузах был большой конкурс. Теперь границы открыты, а на берегу зарабатывают иной раз больше, чем в море. Судовладельцам приходится искать новые аргументы, чтобы обеспечить себя квалифицированным персоналом, в особенности, если бизнес требует специализированных знаний, как у нас.
«Совкомфлот» на этом фронте вооружен своей уникальной социальной политикой. Особенно мы гордимся пенсионной программой, которую компания финансирует из собственных средств. Такого в России еще никто не делал. При этом сегодня у нас на флоте один из самых высоких уровней зарплаты по отрасли.
В лучшем случае, как я предполагаю, российская судоходная отрасль будет обеспечена кадрами еще 20 лет. Что будет дальше, зависит от того, будут ли приняты меры по развитию российской системы морского образования и поднятию престижа морской профессии. Нужно создать условия для поступления в профильные учебные заведения выпускников из отдаленных от моря регионов России, повышать престиж учебных заведений, где готовят «речников», воссоздать систему подготовки рядовых моряков и поддерживать высокое качество знаний. Тогда у России будет шанс не сдать позиции азиатским странам.
«МФ»: Правда ли, что первые поставки российских экипажей за рубеж когда-то было поручено организовывать именно вам? Страна тогда не боялась отдавать квалифицированные кадры?
– В 80-е годы Москва приняла решение начать массовые поставки российских экипажей на суда зарубежных компаний, и на начальном этапе мне действительно пришлось этим заниматься. Наши партнеры по бизнесу были в восторге от квалификации и дисциплины россиян: в увольнение ходят по трое, воздерживаются от употребления алкоголя, дело свое знают, соблюдают порядок. Один недостаток – боятся в руки брать наличные доллары и самостоятельно организовывать снабжение судна.
Государству всегда было выгодно экспортировать рабочую силу, так как моряки тратят свои зарплаты внутри страны. Кроме того, люди везут в страну зарубежный опыт, новые знания. В советские времена экспорт рабочей силы был под контролем, поэтому опасений оставить свои пароходства без кадров не возникало. Это теперь каждый волен выбирать, в какой стране ему жить и на кого работать. Кроме того, не все способны оставить родину, вот и я не смог.
«МФ»: Недавно вас наградили орденом Дружбы. Эта высокая государственная награда обычно вручается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Само понятие дружбы многогранно. Что оно означает для вас в первую очередь?
– Для меня, выпускника Университета дружбы народов, это прежде всего единство людей, разделенных границами. Вся моя жизнь была направлена на взаимодействие с представителями других народов. Если бы я мог выбирать себе орден, я бы выбрал именно такой. Сегодня тема международных отношений, тема дружбы между народами, между государствами особенно актуальна. Нам очень важно отстоять доброе имя нашей страны, укрепляя статус великой державы. Наши моряки в авангарде этой работы, по ним судили и судят о русских за рубежом. И всегда это был имидж трудолюбивых и стойких людей, первоклассных специалистов, способных держать слово и хранить верность своим принципам и традициям. Пусть так будет и дальше. Наша страна этого заслуживает.
Морской флот №2 (2014)
| Вернуться к разделу |